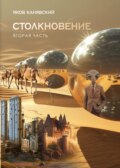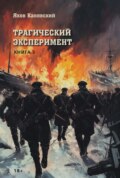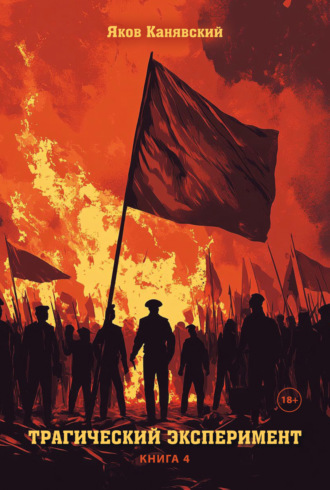
Яков Канявский
Трагический эксперимент. Книга 4
Но по какой причине председатель Совета министров покинул столицу, охваченную восстанием крайне левых? В советской историографии поступок Керенского бескомпромиссно и осуждающе трактовался как бегство. В действительности многое указывает на другое. Спустя сутки большевики заняли кабинет экс-премьера и обнаружили в нём брошенные вещи. Керенский забыл, например, томик Чехова, который читал накануне отъезда. Такая небрежность не свидетельствует о трусости. Скорее – премьер-министр рассчитывал вернуться, так что даже не попробовал, уезжая, что-либо захватить с собой.
Свой путь Керенский мыслил так: двигаться навстречу войскам, которые он вызвал на защиту столицы, возглавить их и ударить в тыл большевикам. Альтернативная стратегия виделась бесплодной: в распоряжении Зимнего дворца оставалось лишь несколько рот юнкеров, отряд солдат-инвалидов и женский «батальон смерти». Отстоять власть с такими силами было невозможно. А значит, и оставаться в городе не имело никакого смысла.
Покинув столицу, премьер-министр прибыл в Гатчину, где обнаружил, что вестей от вызванного им подкрепления нет, как нет и свидетельств того, что войска выдвинулись к Петрограду. Держа себя в руках, Керенский отправился в штаб Северного фронта в Псков, где оказался свидетелем измены: генерал Черемисов, ответственный за выполнение поручения, отказался прийти Временному правительству на помощь. Современники считали, что он действовал по обстоятельствам. Предательство Черемисова вызывалось страхом перед солдатской массой, дружественно настроенной к большевикам, и заговорщического шлейфа вокруг него нет.
На счастье Керенского, офицер, готовый выполнять распоряжения, нашёлся. Ответив на неповиновение Черемисова отказом подчиняться ему самому, генерал Краснов всё-таки взял сторону Временного правительства. Собранные с запозданием войска направились к столице. Но дойти им было суждено только до Гатчины.
Войска, которые вёл в бой Краснов, у Керенского вполне могли вызвать подозрения, но никакого выбора не оставалось. Частично они состояли из казаков, на которых Временному правительству психологически трудно было положиться. В прошлом привилегированное сословие России, после революции казаки ушли в глухую оборону. С февраля 1917-го их обвиняли в стремлении вернуть старый порядок силой, и, деморализованные постоянным давлением, в бой их части шли чрезвычайно неохотно. Революция набирала обороты, и становиться её врагами было опасно.
Другая часть красновцев считалась прямыми противниками Керенского, поскольку ранее служила в частях Корнилова, которого премьер-министр обвинял в попытке захвата власти. Перед глазами Керенского разыгралась фантасмагорическая сцена. Один из офицеров, выполнив приказ премьера, отказался пожать протянутую в знак благодарности руку, демонстрируя нюансы своей позиции: военный соглашался подчиняться правительству, но при этом давал понять, что не имеет к Керенскому лично никакого уважения.
Собранные из ненадёжных людей войска не справились с первым же испытанием, ждавшим их у Пулковских высот. Разыгравшийся там бой показал, что ударной силой красновцев удачнее всего выступает их бронепоезд. Благодаря его залпам удалось продвинуться в глубь территории противника. Но уже через несколько часов железная дорога оказалась зоной риска – это профсоюз железнодорожников Викжель потребовал прекратить гражданскую войну, угрожая лишить страну транспортного сообщения. К миру понуждали как красновцев, так и большевиков, но выдержка слабее оказалась у первых.
Краснов согласился на перемирие, а затем и на переговоры, в ходе которых казаки стали поддаваться уговорам большевиков, предлагавших выдать им Керенского. Вовремя узнав об этом, премьер-министр посчитал, что и сам генерал Краснов состоит в заговоре. Последовала драматическая сцена, которую многие сочли комической. Керенский объявил своему окружению, что хотел бы свести счёты с жизнью, но боится, что его физически немощная рука (он болел) дрогнет. Адъютанты премьер-министра понуро тянули жребий за право выстрелить в шефа, и случай сделать это представился одному из них – Кованько. Но тот выполнять приказ отказался и, приведя своего начальника в чувство, стал горячо уговаривать его спасаться бегством. На том и порешили. Воспрянувший духом Керенский покинул расположение неверных ему сил, оставив вместе с ними и надежду возвратиться в Зимний дворец.
Судьба отвела последнему лидеру добольшевистской России ещё полвека жизни, проведённых в изгнании. Бывший премьер много выступал и писал. Его речи вылились в продолжительный монолог, в них звучали ноты самооправдания, гнева, горечи, раздражения и обиды. «Только теперь и слепым стало ясно, что в то время, когда я был у власти, была действительная свобода и действительно правила демократия!» – восклицал Керенский. Но эмиграция, политические симпатии которой клонились вправо, принимала бывшего премьера холодно.
Как описывал потом эти события Леонид Млечин, 25 октября власть перешла к большевикам, потому что питерцам было всё равно, кто хозяин Зимнего, лишь бы в городе воцарился порядок.
«В молочном тумане над Невой бледнел силуэт „Авроры“, едва дымя трубами, – вспоминал художник Юрий Анненков. – С Николаевского моста торопливо разбегались последние юнкера, защищавшие Временное правительство. Уже опустилась зябкая, истекавшая мокрым снегом ночь, когда ухнули холостые выстрелы с „Авроры“. Добровольческий женский батальон, преграждавший подступ к Зимнему дворцу, укрывшийся за дровяной баррикадой, был разбит. Дрова разлетелись во все стороны. Я видел, как из дворца выводили на площадь министров, как прикладами били до полусмерти обезоруженных девушек и оставшихся возле них юнкеров».
Комиссия Петроградской городской думы установила, что три женщины-солдатки при штурме Зимнего были изнасилованы и одна покончила жизнь самоубийством.
В среду 25 октября (7 ноября по новому стилю) 1917 года газета «Известия» поместила передовую статью под названием «Безумная авантюра»: «Самое ужасное – это то, что большевистское восстание при всякой удаче повело бы к целому ряду гражданских войн как между отдельными областями, так и внутри каждой из них. У нас воцарился бы режим кулачного права, в одном месте террор справа, в другом – террор слева. Всякая положительная работа стала бы на долгое время невозможной, и в результате анархии власть захватил бы первый попавшийся авантюрист. <…> Неужели не ясно, что попытка восстания во время подготовки выборов в Учредительное собрание совершенно безумна?»
Читать эту провидческую статью тем, кто взялся изменить историческую судьбу России, было уже некогда. Они брали власть.
Захват власти большевиками вовсе не был таким уж хорошо организованным предприятием. Но желающих защищать Временное правительство вовсе не нашлось. На улицах Петрограда остались только отряды красногвардейцев и патрули войск, присоединившихся к большевикам.
«Громадный город как бы вымер, – вспоминал будущий главнокомандующий Красной армией Николай Крыленко. – Ни души на улицах. Иногда лишь гремели, с грохотом прокатываясь вдоль Невского, броневые автомобили и, громыхая, подтягивались к Зимнему дворцу трёхдюймовые орудия… Правительство Керенского пало, так как за ним не оказалось никакой реальной силы. Ни один полк не двинулся на его защиту».
Командный состав был напуган настроениями народа. Иван Бунин горестно замечал: «Бледный старик-генерал в серебряных очках и в чёрной папахе что-то продаёт, стоит робко, скромно, как нищий… Как потрясающе быстро все сдались, пали духом!»
Одним офицерам просто сильно не понравилось правление Керенского, другие увидели в большевиках сильную власть, способную управлять страной. Именно поэтому армия не захотела защитить законное Временное правительство и вполне благожелательно отнеслась к тому, что власть взяли большевики.
Генеральный штаб и пальцем не пошевелил, чтобы спасти Временное правительство и помешать большевикам взять власть. 25 октября Генеральный штаб и военное министерство вели себя так, словно политические баталии их вовсе не касаются. Генералы и офицеры соблюдали удивительный для военных людей нейтралитет. Офицеры штаба Петроградского округа и Генерального штаба, узнав о начинающемся восстании большевиков, преспокойно отправились в заранее оборудованное убежище, где провели ночь, выпивая и закусывая.
Утром там появился представитель Военно-революционного комитета большевиков – составить список офицеров, готовых сотрудничать с новой властью. Генштабисты самодовольно говорили: «Они без нас не могут обойтись…» Узнав, что большевики свергли Временное правительство, сотрудники многих министерств разбежались или саботировали новую власть. «Ярким исключением из этого, – с гордостью вспоминал генерал Потапов, – явилось царское военное министерство, где работа после Октябрьской революции не прерывалась ни на минуту».
Подробнейшим образом о том, что 25 октября происходило в Зимнем дворце, рассказал уже в эмиграции участник его обороны поручик Александр Синегуб, преподаватель Петроградской школы прапорщиков инженерных войск.
Утром главный штаб Петроградского военного округа приказал школе прапорщиков явиться к Зимнему дворцу для «усмирения элементов, восставших против существующего правительства». Синегуб во главе батальона юнкеров (то есть воспитанников офицерского училища) отправился исполнять приказ. Все были настроены уверенно:
– Мы быстро устроим границы должного поведения для господ хулиганствующих. Эх, чёрт возьми, разрешили бы арестовать Ленина и компанию, и всё пришло бы в порядок.
Юнкеров построили лицом к Зимнему дворцу. Появился комиссар Временного правительства при Ставке Верховного главнокомандующего поручик Владимир Станкевич:
– Я сейчас приехал из армии. Вера армии в настоящий состав правительства, возглавляемого обожаемым Александром Фёдоровичем Керенским, необычайно велика. Везде царит вера в ясную будущность России. И только здесь, в столице, в красном Петрограде, готовится нож в спину революции. Я рад и счастлив приветствовать вас, так решительно и горячо, без колебаний, отдающих себя в распоряжение тех, кто единственно имеет право руководства жизнью народа до дня Учредительного собрания.
Станкевич пожал руки офицерам и исчез.
Юнкеров отправили охранять Мариинский дворец, где заседал Совет республики – так называемый предпарламент, образованный представителями различных партий и общественных организаций. Совет республики должен был действовать до созыва Учредительного собрания. Командир попросил выдать патроны. – Патроны? Зачем? – удивился комиссар Временного правительства.
– У нас мало. По 15 штук на винтовку. Пулемётов и гранат совсем нет. Обещали здесь выдать, но добиться…
– Это лишнее. Дело до огня дойти не может. И 15 штук за глаза хватит. Огня без самой крайней необходимости не открывать. А если и подойдёт к Мариинскому дворцу какая-нибудь хулиганствующая толпа, то для её укрощения достаточно одного вида юнкеров с винтовками.
По дороге выяснилось, что городскую телефонную станцию захватили красногвардейцы. Ворота станции были заперты, изнутри их не открывали. Командир юнкеров потребовал прислать ему подкрепление, пулемёты и пироксилин, чтобы взорвать ворота.
Комиссар Временного правительства остановил его:
– Первыми огня не открывать. Это может всё дело испортить. Потом будут кричать, что мы первые открыли стрельбу и что мы идём по стопам старорежимных городовых – стреляем в народ.
Красногвардейцы захватили не только городскую телефонную станцию, но и телеграф, и центральную телефонную станцию, после чего телефоны Зимнего дворца были отключены. Большевики контролировали и радиосвязь.
От попытки вернуть контроль над телефонной станцией юнкера быстро отказались. Комиссар Временного правительства увёл отряд назад, к Зимнему дворцу. Туда вызвали всех, кто откликнулся на призыв правительства защитить законную власть и порядок в стране, – школы прапорщиков из Ораниенбаума и Петергофа, Константиновское артиллерийское училище… В Зимнем появились казаки, инвалиды – георгиевские кавалеры и ударная рота женского «батальона смерти».
Начальник инженерной школы прапорщиков полковник Ананьев, назначенный ответственным за оборону Зимнего дворца, разработал план действий. Но план тут же начал рушиться. Артиллеристы Константиновского училища раздумали защищать Временное правительство, покинули дворец и увели свои орудия. Удержать их не удалось. Собрались уходить и казаки:
– Когда мы сюда шли, нам сказок наговорили, что здесь чуть ли не весь город с образами, да все военные училища и артиллерия, а на деле-то оказалось… Вас тут даже Керенский, не к ночи будь помянут, оставил одних.
Первые случаи расхищения спиртного были зафиксированы ещё до штурма Зимнего. В ночь с 4 на 5 ноября толпа любителей выпить ворвалась во дворец великой княгини Ксении Александровны на Офицерской улице и разгромила винный погреб, похитив и разбив около 2500 бутылок коллекционных вин. Тогдашние милиционеры – в основном студенты и гимназисты с повязками на рукаве – не смогли справиться с погромщиками, а прибывшие к ним на помощь красногвардейцы присоединились к выпивохам, жадно поглощавшим великокняжеские вина.
В тот же день толпа пьяниц разгромила пивоваренный завод на Обводном канале. Причём погром начали солдаты 4-го Железнодорожного батальона, который был направлен… на охрану пивзавода. К солдатам присоединились местные выпивохи. В общей сложности на завод ворвалось несколько сотен человек.
Но самую большую пьянку в Петрограде закатили 7 ноября, когда власть в городе окончательно перешла к большевикам. И произошло это в том самом Зимнем дворце, который, по распространённой легенде советских времён, брали доблестные красногвардейцы и восставший народ. Сам штурм – отдельная тема для разговора. Но вот то, что главной его целью для многих революционных солдат и красногвардейцев стали винные погреба царского дворца, – истинная правда. Многие, ворвавшись во дворец, искали дорогу не к помещению, где находились министры Временного правительства, а к подвалам, где хранились вина для царского стола. Там они нос к носу сталкивались с юнкерами, которые первыми добрались до выпивки. Но боестолкновений в подвалах не зафиксировано – вина хватало всем.
Сразу же после штурма Зимнего перепился его первый караул из солдат Преображенского полка. Их тут же заменили солдатами Павловского полка, но и они вскоре еле стояли на ногах.
Решили поставить охранять спиртное наиболее сознательных – рабочих-красногвардейцев. Но их сознательность испарилась после первой же бутылки. По вечерам в окрестностях Зимнего раздавался клич: «Допьём романовские остатки!» С «пьяными штурмами» винных погребов Зимнего дворца удалось справиться лишь после того, как отряд моряков во главе с комендантом Смольного Мальковым прикладами переколотили все хранившиеся в погребах бутылки, а пожарные насосами откачали получившийся «коктейль» в Неву.
При этом самые ненасытные пьяницы становились на четвереньки и горстями хватали пропитанный вином снег из канав вокруг Зимнего.
По Зимнему дворцу бродили группы пьяных офицеров. Они уже ни во что ни верили и ничего не хотели делать. Полковник Ананьев сообщил: – Сейчас получен ультиматум с крейсера «Аврора», ставшего на Неве напротив дворца. Матросы требуют сдачи дворца, иначе откроют огонь из орудий. Правительство хочет отпустить всех желающих уйти. Само же остаётся здесь и от сдачи отказывается.
При наличии войск и решительности командиров оборону во дворце можно было держать довольно долго. Но не было ни того ни другого. В Зимнем дворце царил хаос. Юнкера, немногочисленные защитники Временного правительства, не знали, что делать, и бесцельно слонялись по коридорам. Офицеры не доверяли друг другу, потому что одни уже готовы были перейти на сторону большевиков, другие просто хотели убежать, чтобы не подвергать риску свою жизнь.
Полковник Ананьев извиняющимся тоном сказал поручику Синегубу:
– Саня, я вынужден сдать дворец. Не кипятись. Беги скорее к Временному правительству и предупреди… Скажи: юнкерам обещана жизнь. Это всё, что пока я выговорил. Для правительства я ничего не могу сделать.
В пустынном коридоре на полу валялись винтовки, гранаты, матрацы. Всего несколько юнкеров продолжали охранять правительство. Но всё было кончено. Дворец перешёл в руки большевиков.
Появилась, по описанию Синегуба, «маленькая фигурка с острым лицом в тёмной пиджачной паре с широкой, как у художников, старой шляпчонке на голове». Это был прапорщик Владимир Александрович Антонов-Овсеенко. Октябрь 1917 года был его звёздным часом. По поручению Петроградского военно-революционного комитета он руководил захватом Зимнего дворца и арестом Временного правительства. Он громким голосом произнёс: – Товарищи, капиталистическая власть, власть буржуазная, у наших ног! Товарищи, у ног пролетариата! И теперь вы, товарищи пролетарии, обязаны проявить всю стойкость революционной дисциплины! Я требую полного спокойствия!
Пётр Пальчинский, заместитель министра торговли и промышленности, сообщил юнкерам решение правительства: сдаться без всяких условий, подчиняясь силе. Некоторые юнкера не хотели сдавать оружие: – Прикажите открыть огонь! – Бесцельно и бессмысленно погибнете, – последовал ответ. «Октябрьский переворот, – вспоминал последний начальник Петроградского охранного отделения жандармский генерал Константин Глобачёв, – произошёл легче и безболезненней, чем Февральский. Для меня лично в то время, по существу, было всё равно, правит Керенский или Ленин. Возникла некоторая надежда на то, что усиливающийся в течение восьми месяцев правления Временного правительства развал наконец так или иначе приостановится».
Пока брали Зимний дворец, в половине третьего ночи в Смольном институте открылось экстренное заседание Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. На трибуну вышел председатель совета Лев Троцкий:
– От имени Военно-революционного комитета объявляю, что Временное правительство больше не существует!
В зале началась овация.
Решающую ночь октябрьского восстания Троцкий провёл на третьем этаже Смольного. Оттуда он руководил действиями военных частей. К нему пришёл член ЦК Лев Каменев, который возражал против восстания, считая его авантюрой, но счёл своим долгом быть рядом в решающую минуту.
– Отдельные министры подвергнуты аресту, – продолжал Троцкий. – Другие будут арестованы в ближайшие часы.
Зал опять зааплодировал.
– Революционный гарнизон, состоявший в распоряжении Военно-революционного комитета, распустил парламент.
Шумные аплодисменты.
– Нам говорили, – продолжал Троцкий, – что восстание гарнизона вызовет погром и потопит революцию в потоках крови. Пока всё прошло бескровно. Мы не знаем ни одной жертвы. Власть Временного правительства, возглавлявшаяся Керенским, была мертва и ожидала удара метлы истории, которая должна была её смести. Обыватель мирно спал и не знал, что одна власть сменялась другой.
И тут он увидел, что в зале появился Ленин, и объявил:
– В нашей среде находится Владимир Ильич Ленин, который в силу целого ряда условий не мог до сего времени появляться в нашей среде… Да здравствует возвратившийся к нам товарищ Ленин!
Владимир Ильич предстал перед публикой впервые после четырёхмесячного пребывания в подполье. На трибуну поднялся казавшийся незнакомым человек – стриженный наголо и чисто выбритый. Без бороды и усов его многие не узнали.
Ленин тоже произнёс речь:
– У нас будет советское правительство, наш собственный орган власти, без какого бы то ни было участия буржуазии. В корне будет разбит старый государственный аппарат управления, и будет создан новый в лице советских организаций. <…> Для того чтобы окончить эту войну, необходимо побороть самый капитал. <…> В России мы сейчас должны заняться постройкой пролетарского социалистического государства. Да здравствует всемирная социалистическая революция!
Зал откликнулся восторженными аплодисментами.
В Таврическом дворце открылся Второй всероссийский съезд Советов. Он принял написанное Лениным обращение к рабочим, солдатам и крестьянам, в котором говорилось, что съезд берёт власть в России в свои руки, а на местах власть переходит к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Меньшевики и правые эсеры выразили протест против «военного заговора и захвата власти» и покинули съезд.
Им возразил Троцкий:
– Восстание народных масс не нуждается в оправдании; то, что произошло, это не заговор, а восстание. Народные массы шли под нашим знаменем, и наше восстание победило. И теперь нам предлагают: откажитесь от своей победы, идите на уступки, заключите соглашение. С кем? С теми жалкими кучками, которые ушли отсюда? За ними никого нет в России. Вы – банкроты, ваша роль сыграна, и отправляйтесь туда, где вам отныне надлежит быть: в сорную корзину истории.
Образовали первое советское правительство. В декрете съезда оно названо «временным рабочим и крестьянским правительством» – до созыва Учредительного собрания. Но уже через несколько дней слово «временное» забыли. Большевики взяли власть и не собирались её отдавать. Совет народных комиссаров получил от ВЦИК право издавать неотложные декреты, то есть постановления правительства обретали силу законов.
Ни одна другая социалистическая партия не захотела заключить коалицию с большевиками. Поэтому первое правительство полностью составилось из большевиков. Его состав определили на ночном заседании ЦК партии – в комнате № 36 на первом этаже Смольного.
Ленин вошёл в комнату, забитую людьми. По-хозяйски устроился за столом. Рядом расположился ещё кто-то из руководителей партии. Места остальным не хватило. Стояли или усаживались прямо на пол.
– Ну что же, если сделали глупость и взяли власть, – несколько иронически сказал Лев Каменев, – то надо составлять министерство.
– У кого хороший почерк? – Ленин настроился на деловой лад.
– Владимир Павлович Милютин – лучший из нас писарь.
Будущему наркому земледелия Советской России очистили место за столом. Он вооружился карандашом и бумагой.
– Так как назовём наше правительство? – задал кто-то первый вопрос. – Министры-то хоть останутся?
Ленин рассуждал вслух:
– Только не министры! Гнусное, истрёпанное название.
– Можно было бы комиссарами назвать, – предложил Лев Троцкий. – Но только теперь слишком много развелось комиссаров. Может быть, верховные комиссары? Нет, «верховные» звучат плохо. Нельзя ли «народные»? Народные комиссары.
– Что же, это, пожалуй, подойдёт, – одобрил Ленин. – А правительство в целом?
– Правительство назвать Советом народных комиссаров, – предложил Каменев.
– Это превосходно! – обрадовался Ленин. – Ужасно пахнет революцией. Принято. Начнём с председателя.
И сам предложил:
– На пост председателя – Троцкого.
Лев Давидович запротестовал:
– Это неожиданно и неуместно.
Ленин настаивал на своём:
– Отчего же? Вы стояли во главе Петроградского совета, который взял власть.
Троцкий не согласился:
– Этот пост должны занять вы как лидер победившей партии.
Владимир Ильич не стал возражать:
– Тогда вы нарком по внутренним делам, будете давить буржуазию и дворянство. Борьба с контрреволюцией важнее всего.
Троцкий отверг и это предложение:
– Будет гораздо лучше, если в первом революционном советском правительстве не будет ни одного еврея.
Ленин презирал антисемитов, поэтому он вспылил:
– Ерунда. Всё это пустяки. У нас великая международная революция, какое значение могут иметь такие пустяки?
– Революция-то великая, – ответил Троцкий, – но и дураков осталось ещё немало.
– Да разве ж мы по дуракам равняемся?
– Равняться не равняемся, а маленькую скидку на глупость иной раз приходится делать: к чему нам на первых же порах лишнее осложнение? Я бы охотнее всего продолжил занятия журналистикой.
Тут уже против высказался секретарь ЦК партии Яков Свердлов:
– Это мы поручим Бухарину.
Практичный Свердлов нашёл работу для Троцкого:
– Льва Давидовича нужно противопоставить Европе. Пусть берёт иностранные дела.
– Какие у нас теперь будут иностранные дела? – недоумённо пожал плечами Ленин, как и все, ожидавший мировой революции, но, подумав, согласился.
Наркомом по внутренним делам назначили Алексея Ивановича Рыкова. Он вытащил и показал наган, который носил с собой. Кто-то недоумённо спросил:
– Зачем он тебе?
– Чтобы перед смертью хоть пяток этих мерзавцев пристрелить.
Дальше составление правительства пошло быстрее.
На второй день после победы большевиков – в перерыве между заседаниями съезда Советов – меньшевик Николай Суханов отправился в буфет, где была давка у прилавка. В укромном уголке натолкнулся на Льва Каменева, впопыхах глотавшего чай. Спросил:
– Так вы окончательно решили править одни? Я считаю такое положение совершенно скандальным. Боюсь, что, когда вы провалитесь, будет поздно идти назад.
– Да, да, – нерешительно и неопределённо выговорил Каменев, смотря в одну точку. – Хотя… почему мы, собственно, провалимся?
В на скорую руку сформированное правительство решили ввести представителя балтийских моряков – главной военной силы, принявшей сторону большевиков. Павла Дыбенко утвердили наркомом по морским делам. Теперь они встречались с Коллонтай на заседаниях Совнаркома в Смольном. Не только заметная разница в возрасте, но и необыкновенная пылкость чувств влюблённых друг в друга наркомов, словно нарочито выставленная напоказ, смущали товарищей по партии и правительству.
Павлу Дыбенко было двадцать восемь лет. В сопровождении вооружённых моряков он явился в военное министерство, где на него смотрели с изумлением, плохо представляя себе корабельного электрика в роли военно-морского министра.
События тех дней историк Елена Прудникова описывает так:
«Под флагом Комитета спасения меньшевики <…> начали работать над реставрацией керенщины. Добрая половина их по-прежнему стояла за коалицию. Остальные либо признавали „законную власть Временного правительства“, либо считали необходимым создать новую власть в противовес Смольному, либо просто стояли за ликвидацию Смольного всеми средствами и путями».
Отделы перестали работать, и большинство служащих разбрелось кто куда. Это ещё довольно понятно и непредосудительно. Но денежные суммы? Представьте себе: старый ЦИК унёс их с собой! Служащие – кассиры, бухгалтеры и барышни – по распоряжению низложенных властей набили кредитками свои карманы, напихали их, куда возможно, под платье и унесли из Смольного всю кассовую наличность. <…> Большинство ЦИК захватило деньги в целях дальнейшего распоряжении ими по своему усмотрению: их употребляли в дальнейшем па политические цели меньшевиков и эсеров. <…> И всё это было проделано без всяких попыток отрицать законность Второго съезда и его ЦИК.
Временное правительство опиралось просто на кучку людей, объявивших себя каким-то «комитетом». Да и с правительством этим большевики поступили точно так же, как сформировавшая его Дума в своё время поступила с царскими министрами.
Крыленко отправился в Петропавловскую крепость и сказал адмиралу Вердеревскому, что морской министр дезертировал и что он, Крыленко, уполномочен Советом народных комиссаров просить его ради спасения России взять на себя управление министерством. Старый моряк согласился…
Большевики, остро нуждавшиеся в любых кадрах, ни для кого не закрывали возможность работы. Есть данные, что впоследствии консультантом ВЧК был даже такой одиозный человек, как бывший шеф жандармов Российской империи Джунковский. Но вот трибунная политическая болтовня больше не требовалась, и господа политики ощутили себя выброшенными из жизни.
Следующие два дня ушли на агитацию. Заводы стояли за Совнарком, «чистая» публика – за Комитет спасения. Шла пропагандистская битва за гарнизон.
Ранним утром 29 октября в Смольном внезапно замолчали телефоны. Причина выяснилась скоро: около 7 утра на петроградскую телефонную станцию явилась рота солдат Семёновского полка. Они выглядели как свои и знали пароль, так что никто ничего не заподозрил до тех пор, пока они не разоружили охрану и не посадили под замок производившего инспекцию Антонова-Овсеенко. Странные солдаты оказались переодетыми юнкерами. Они укрепились на станции и на все попытки большевистских отрядов прорваться туда огрызались огнём.
В то же время другие отряды заняли телеграф и военную гостиницу – но красные их вскоре оттуда выбили. Так начался мятеж, подготовленный Комитетом спасения. В комитете было всякой твари по паре, однако вооружённый мятеж требует весьма специфического боевого опыта. И люди с таким опытом нашлись. Ведущую роль в заговоре сыграли бывшие товарищи большевиков по борьбе против существующего строя – эсеры.
Один из руководителей, член ЦК партии эсеров Брудерер, был задержан красногвардейским патрулём. При обыске у него нашли документы, по которым быстро установили, что готовится мятеж, а также какие части должны принять в нём участие. ВРК успел вовремя предупредить районные советы, воинские части и заводы и даже частично подготовиться к удару. Такова официальная версия – но Джону Риду, например, один знакомый журналист ещё накануне вечером под строжайшим секретом поведал, что выступление начнётся в полночь. А коль скоро о грядущем мятеже знали журналисты, то уж, наверное, знали и большевики.
Ну, не в полночь, допустим… но в 2 часа ночи Полковников отдал следующий приказ по Петроградскому гарнизону:
«По поручению Всероссийского комитета спасения родины и революции я вступил в командование войсками спасения.
Приказываю:
1. Никаких приказаний Военно-революционного комитета большевистского не исполнять.
2. Комиссаров Военно-революционного комитета во всех частях гарнизона арестовать и направить в пункты, которые будут указаны дополнительно.
3. Немедленно прислать от каждой отдельной части по одному представителю в Николаевское военное училище (Инженерный замок).
4. Все не исполнившие этот приказ будут считаться врагами родины и изменниками делу революции».
Трудно сказать, был ли этот приказ разослан всем частям гарнизона или же только своим, но практически сразу на улицах появились юнкера, которые стали ловить и обезоруживать красногвардейские патрули.
В 4 часа ночи Николаевское училище подняли и выстроили во дворе, выдали боевые патроны. Какой-то полковник произнёс короткую речь, сказав, что к 11 часам в город войдут войска Керенского, а до тех пор надо захватить Михайловский манеж и телефонную станцию. И то и другое взяли без труда – правда, овчинка едва ли стоила выделки, ибо исправными в манеже оказались всего лишь пять броневиков.