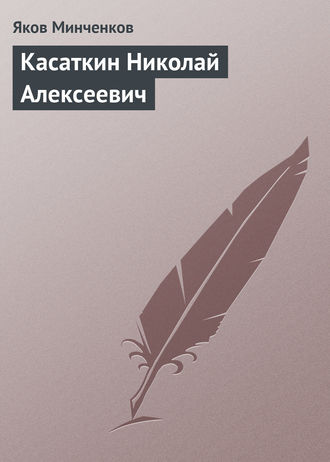
Яков Минченков
Касаткин Николай Алексеевич
Она часто бывала в Ясной Поляне и по приезде оттуда делилась, с нами своими впечатлениями о великом старце, как она называла Толстого. «Наш великий старец» склонялся у нее во всех падежах. Передавались все нужные и ненужные подробности о нем.
Сейчас она приводила новое изречение «старца», потом переходила на какие-то новые открытия в науке, говорила о поэзии индусов и о глиссандо на носках в балете.
И думалось: «Вот дал же бог ей такую умную голову – обо всем может рассуждать!» – а дети Касаткина смотрели на нее большими испуганными глазами.
Когда же она переходила на живопись и требовала от нее служения, идеям великого старца, благочестивого назидания, то казалось, что в этом, она превзошла самого Толстого, убивая в угоду толстовской морали самую сущность искусства. Мне не верилось, чтобы Лев Николаевич так относился к художественному творчеству, подходил к нему с такой суровой беспощадностью.
Мне хотелось доказать ей, что Толстой, будучи сам великим художником, несмотря на свою проповедь о добром искусстве, понимает и ту сторону искусства, которая остается за бортом его проповеди, что он более человечен, чем его аскетическое учение.
В каком-то журнале я прочел такой рассказ. В Москве давал концерт Антон Рубинштейн, лучший в мире исполнитель на рояле произведений Бетховена. После концерта поздно ночью вернулся он к себе в гостиницу; швейцар ему говорит, что его поджидает какой-то мужичок. Удивленный Рубинштейн в мужичке узнал Толстого.
Толстой просит: «Антон, сыграй мне что-нибудь» (в рассказе, помнится, обращение между Толстым и Рубинштейном было дружеское – на ты). – «Но ведь ты отрицаешь то, что я играю». – А Толстой снова: «Сыграй, прошу тебя».
Рубинштейн открыл рояль, который был в номере, сел и стал играть. Играл так, как мог играть только гению или всему миру, играл то, от чего отрекся аскет Толстой. И Толстой – живой человек, слушал и, прикрыв глаза рукою, плакал.
Вот каков Толстой! Он не задушил в себе все живое, человеческое, он чувствует так же, как и мы, – хотел я сказать воспитательнице и с тем пошел в субботу, в свободный от занятий вечер, к Касаткину на вечерний чай.
Там я снова увидел строгую фигуру воспитательницы и то, что приготовился сказать, не сказал – побоялся.
Жена Касаткина, в заботах о многочисленной семье, растерянно суетилась; Николай Алексеевич деловито и сухо делал ей замечания или распоряжения.
Иллюстрацию семейной жизни художника Касаткин дал в такой картине: стоя за мольбертом, художник с энтузиазмом пишет картину с позирующей ему натурщицы, а сквозь открытую дверь видно, как в другой комнате жена его погружена в семейные хлопоты, возится с ребенком.
Одному – искусство, творчество, а другому – житейская проза.
Мне не хотелось видеть мелочей жизни своего учителя, которые не уживались с моим тогдашним представлением о художнике и даже накладывали в моих глазах особый отпечаток на его произведения. Из-за этого я почти совсем перестал бывать у Касаткина.
Один мой товарищ также сознавался: «Посмотрю, – говорит, – на картины Касаткина – и хорошо как будто, а как вспомню про дрова на его лестнице и запах из кухни – пропало и хорошее в картине, пропиталось оно особым привкусом от домохозяйства. Видно, брат, искусство требует и надлежащего окружения».
Из наших представлений об искусстве не выдохся еще тогда фимиам, который мы возносили ему в сердцах наших, жизнь не успела подрезать наши крылья, на которых мы тоже пробовали подняться над пыльной дорогой.
На выставке появилась большая картина Касаткина «Углекопы», находящаяся сейчас в Третьяковской галерее.
Тема картины соответствовала общему направлению передвижничества, заветам Крамского, Савицкого (его картина «На постройке железной дороги»), Ярошенко («Кочегар»).
Николай Алексеевич был большим поклонником Ярошенко, ярого защитника идейности, гражданственности искусства. Ярошенко был прекрасный организатор, с сильной волей и умел держать Товарищество в крепких рамках передвижнических правил.
Толчком к написанию «Углекопов», возможно, послужила картина Менделя «Завод», которую Касаткин высоко ценил как по содержанию, так и по исполнению. О ней он часто упоминал в беседе с учениками.
Этюды для картины он собирал на Макеевских рудниках в Донбассе. Когда приехал туда – шахтеры сначала очень недоверчиво отнеслись к нему. Они подозревали в нем царского сыщика и намеревались даже сбросить его в шахту, но потом поняли его цель, подружились с ним и снимались даже на одной фотографии.







