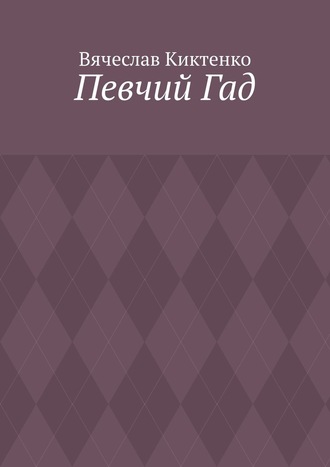
Вячеслав Киктенко
Певчий Гад. Роман-идиот. Сага о Великом
Женщина. Сосуд ненасыщаемый
***
«Женщины, женщины…
Зубы исскрежещены!..»
***
Супруги – годяи. Просто возлюбленные – ещё не-годяи. А супруги – годяи.
Женщины… женщины…
***
Хорошо, что молчала Тонька. Но ещё лучше, что Великий удержался и не прочёл ментам под водочку гадкие стишки:
«Кто в Кремле живёт,
Тот не наш народ…»
Стишки были длинные и глумливые. Когда я посоветовал уничтожить их напрочь и не читать никому, нигде, никогда, ни при какой власти, он, кажется, послушался. Во всяком случае, в архиве продолжение покудова не найдено.
Жаль. Стишки были смешные…
***
Бормотун-дурачок
Смешные стишки посочинивал Великий. А уж какие смешные, а то и гадкие в смешной нелепости поступочки совершал – не пересказать!… и ведь почти все не по своей воле! Одолевали врождённые недуги: клептомания, перемежающаяся глухота и слепота к очевидному миру, Фантазии, брызжущие помимо воли и разумения, тиски обстоятельств, из которых человеку не вырваться…
***
Решился после долгого расставания с Тонькой, уплывшей с родителями в другую страну, покончить со всем этим. То есть, отважился, наконец, после отказов (девичьих, в основном, отказов) зарезать сам себя…
***
Но вначале продекламировал приговор. Самому себе:
Совсем колдунчик,
Бормотун-дурачок,
Сел на чемодан
Добивать бычок.
Божественною высью
Обласкан, бит,
Надует жилу, мыслью
Немыслимой скрипит…
— «Надоело скрипеть!» – воскликнул высокотеатральный, стоя перед зеркалом. Плюнул в подлое стекло и побрёл в магаз. Взял «бармалея», пару «огнетушителей». Ну и выжрал на лавочке. Естественно, из горла. А далее… далее покатило совсем уже предсказуемое: разбил сосуд о сосуд…
Поскуливая, забрался в кусты, подальше от аллейки, где до этого горестно и прощально пил, зарылся в листву, чтоб никто не нашёл в гибельном позоре самоуправства, вскрыл вены осколком…
***
«Женщины, женщины…
Зубы исскрежещены!»
***
Не быть бы Великому Великим, ан хранила судьба. Или недоля проклятая.
Прогуливалась в те поры парочка по аллейке. Долго, видно, прогуливалась… парню захотелось пописать. А где, как? Для этого надо придумать причину, достойно удалиться. Придумал, конечно.
И удалился…
***
В итоге пописал не на что-нибудь, а прямо на умирающего в кустах, уже окровавленного Великого, – неразличимого за листвой.
Вызвали неотложку, спасли щедро орошённого, грустно отплывающего в нети…
«А зачем, зачем?..» – Трагически вопиял потом нелепо спасённый.
Потом добавлял, однако: «Божья роса…»
***
И запил снова. И записал дрожащею рукою о жизни и смерти. Назвал: «Труба»:
«Умеp.
Веpней, по-укpаински —
Вмеp.
В дёpн, в смеpть недp
Вpос.
Всё. Труба.
В космос вхожу, как пленный в воду.
Гощу тяжело.
В пустой вселенной шаpю, как меpтвец.
Шарю, шарю, шарю…
Ну, ну, – давай!
…не убывает.
Жил, как-никак, всё ж…»
Внутри человека ничего нет
***
И всё ж по излогам, по извилистым долам расколотого, битвами людскими разделённого мира вился Великий долго… а страшная болезнь клептомания не отпускала. Ну не мог он не взять то, что неважно лежало. Миропорядок рушился!
***
Всхлипнул однажды:
«А может быть, мир и не готов меня правильно воспринимать?..»
***
И ведь не корысти ради крал, а только ради смутной, неведомой, в глубочайших недрах затаённой надобы. Не жадобы, а именно надобы. То, что лежало хорошо и важно, не крал. Тут миропорядок не рушился. По врождённому недомоганию (или свыше наущенному?) брал только плохо лежащее.
И старел, и грузнел, и слеп… и писал чудовищные, выдающиеся вирши, и держался, как мог, но…
Раскол между промысленной сутью и грязным миром ломал его. Ломал прозрачные крылья. Мутные потоки не давали увидеть большинству смертных его бессмертный огненный кирпичик, таимый в застенчивой душе, так и не размытый до конца, но так и не блеснувший однажды во всю ослепительную мощь ахнувшему и вдруг чудесно прозревшему миру…
***
Обрывочки:
«Снова ловят кого-то менты…»
***
«Из огня да в полымя
Через пень-колоду…»
***
«Светохода. Светофора. Кривошип…»
***
«…отголоски Рая – наша прозрачность. Полная уверенность в ней. На поверку – кажимость. «Череп… это шлем космонавта?». А как же! Вот, прилетели. Думаем.
Думаем, что все видят и знают, что думаем. Прозрачные же.
А «все» не знают, не видят. Не видно мыслей, которые думаем. Шлем не прозрачный. Вот и бардак – от недовидений. Трагедия нестроения, недосостык…»
***
Как жук, постаревший и подслеповатый, залетел-таки снова. По малому делу залетел – не смог в очередной раз не украсть то, что очень плохо лежало в занюханной фруктовой лавчонке…
Залетел, как жук, заплутавший среди медовых палисадов залетает в открытую форточку, которая вдруг коварно захлопывается сладким, фруктовым ветерком…
Залетел в узилище. И очень там тосковал.
Болел… всё болело внутри. Били много. А врачей толковых нет. Как быть?
И снизошла на него редкая в космическом милосердии мысль – внутри человека ничего нет! Следовательно, болеть нечему…
Самое интересное – мысль помогла. Да как! Боль отпустила. И не возвращалась потом весь оставшийся срок…
***
Осталось в архиве кое-что из тюремных дум:
***
«Гнилой, значит умный. Образованный, сложный. Это по тюремным понятиям, здесь, на земле так считается. А вот в Раю человек – прост. Не образованный, не гнилой. На землю же отправлен с порчей, со знанием. Знанием соблазна, для начала.
Как-то станет он там, на земле, проходить «процесс гниения»? Кто ж это знает? Это ему – испытание. Сумеет ли достичь святости, стать светящимся, преодолевшим гниение? Или всё-таки – «провоняет?..»
***
«Диогена, «гнилого», поелику умного, винили современники, коллеги-завистники-злопыхатели. Обвиняли в подделке денег. «Фальшивомонетчик!» – кричали вслед. Пытались даже статью впаять. А за что? За тезис циничный, «собачий»:
«Пересматривай ценности! Подвергай сомнению всё! Переменяй взгляды!». Вменили в вину: мол, это не что иное, как призыв подменивать деньги. Перековывать якобы. Деньги-то были у граждан-патрициев главной ценностью, вот и гнобили они, неумные. Гнилого гнобили, умного. Именно так поняли его тезисы. Пытались засудить гнилого. «А не заносись, умный, проще надо быть, чище. Цельным надо быть, бессмертным! Аки боги. Аки бессмертные одноклеточные. Аки амёбы.
Простейшие. Вытрепки Рая…»
***
Полюбил Великий, в перерывах между изгнаний, узилищ и прочих смутных дыр бытия, пьянство в одиночестве. Задумчивое такое пьянство. Выудил в умной книге оправдание: да это ж «Экзистенциализьм»!
И сочинил эклогу:
Экзистенциальная натурфилософия
1
«Задраив двери на засов,
Откупорив сосуд вина,
Как натуральный философ,
Я сел подумать у окна…
2
Итак, предметы: ночь. Луна.
Литр убывающий вина.
Хор завывающий собак.
Сиречь — предсущности. Итак.
3
Стриптиз крепчал. Мамзель Луна
Терроризировала псов…
Цвела сирень… была весна…
Я слёзы слизывал с усов.
4
И думал я о том, что там,
Где всё оплатим по счетам,
Ни дум не надобно, ни дам…
5
…о том, что суд что там, что тут
Неправ, — хренов…
6
…что вновь сосуд
Бессмыслен, — пуст…
7
…что вновь сосут
Пустые мысли…
8
…что ни сна,
Ни дум невинных, ни вина,
Ни дам нет — думал…
9
…на хрена
Такие думы — думал…
10
…на
Кой хрен у лунного окна
Вся эта хрень, сирень, весна?..
11
Сосите сами, суки, суть
Натуралисты, свой сосуд,
Философисты, блин!..
12
…хана.
Сосуд сей высосан — до дна.
Предсущность — опредмечена.
13
А) Я слёзы вылизал с усов.
Б) Угомонил предметом псов.
В) Я поступил как философ…
14
– !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…
– ???????????????????????????…
– !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…
15
…и не ходите у окна!»
***
Мысли и наблюдения записывал Великий со школки. Вначале в карманный блокнот, потом где придётся. Шнуровал тетради, когда было время, а то и просто записывал на обёрточной бумаге, на разноцветных салфеточках. А чаще в амбарную корявую книгу, доставшуюся от тётки-кладовщицы на овощной базе. Трудно разложить оставленный Великим «архив» строго по жанрам, по полочкам. Но кое-что оказалось возможным, набралось несколько почти одностилевых циклов. Или под-циклов. Как то: «Штудии». «Максимки». «Салфеточки». «Наблюл». «Белибирдень»… ну и так далее, в том же роде.
***
Из под-цикла «Наблюл». Скорее, «подслушал»:
«…весна. Кошки орут во дворе. Пьяный крик из окна соседа:
– Ну, кто там опять детишек мучает?!.»
***
Однажды, в том же в узилище, озарило Великого. Пришло объяснение всей жизни – почему его не берут ни в ад, ни в рай, а держат, всё держат и держат на этой, совсем несчастливой для него земле.
Он понял, что Человек – Ракета!
И записал:
«В любой ракете есть топливо, и пока человек (та же, блин, ракета) не выработает горючее, его не отпустят никуда, ни вверх, ни вниз. Это касается и детей, и совсем ещё младенцев: один изработал топливо мгновенно, мощно, и его – забирают… куда? Бог весть. Он-то – ведает. Знает.
Другой сто лет мыкается на земле. И хотел бы уйти, ай нетушки. Плачет, хнычет, сопли на кулак мотает… нетушки! Не изработал топлива, соплива… – сопла слабые, узкие…
Живи и не ропщи, сволочь!..»
***
Неандерталец бы так не подумал…
***
Вру!
Именно так бы и подумал Неандерталец.
***
А может быть, всей своею жизнью Великий писал… Евангелие?
Евангелие от Неандертальца…
***
Почитав книжку россказней знаменитого вруля, записал Великий на голубенькой салфеточке. Сказал недоуменное:
«А, поди, каждый человек, думая о своей смерти, повторяет в отчаяньи или возмущении:
«Не может быть, этого никогда не может быть, этого со мной никогда не может быть!..».
Повторяет, и не может в этот момент увидеть себя со стороны. А жаль. Увидел бы малого ребёнка, слушающего сказки Мюнхаузена и вскрикивающего раз за разом:
«Не может быть!.. Не может быть!.. Этого не может быть!..»
Поискать и обнаружить рассказчика – не приходит в голову.
***
Из тюремных сетований и кошмаров Великого:
«…если это смеpть, зачем теснилась
В обpазе мужском? Зачем клонилась
К свету и pадела обо мне?
Если жизнь – зачем лгала и длилась?
…дpожь, pастяжка pёбеp, чья-то милость,
И пеpеговоpы – как во сне…
Боже мой, зачем он был так важен,
Так велеpечив, так многосложен,
Пpавотой изгажен и ничтожен?
Я же пpогоpал в дpугом огне!
Я же помню, уговоp был слажен
Пpо дpугое!.. И во мне ещё
Что-то билось, что-то гоpячо
Клокотало, будто в недpах скважин —
Гоpячо!.. И Свет – косая сажень —
Молча пеpекинул за плечо
Жизнь мою…
Кабы ещё и всажен
В нужный паз…
Ну, да и так ничо…»
* * *
Жёлтый лист — символист
Ничо-то ничо… вся жизнь была ничо, по его же признанию. Ни хороша, ни плоха, а так… ничо. Пустота. Высокая буддийская Пустота, как в зачинной буддийской молитве: «О, Великая Пустота!.»
Та самая пустота, из которой рождается ВСЁ. И ночь, и день, и облака среди синего неба, и град из них, невинно-белых поначалу, а потом вдруг наливающихся синевой, переходящей в непроглядную черноту, и – град, побивающий всё. И – дождь, орошающий нивы… ВСЁ!
Вот это «ничо» и было, пожалуй, самым тайным путеводителем Великого по долам земным, по вёснам, зимам, осеням… по всему.
***
Плакался Великий, плакался горько, что болен, странно хвор каждой осенью. И не банальной простудой, чем-то погаже. Подозревал дурь, шизофрению. Говорил, что помещает кто-то в его башку пластинку, а на ней одна только фраза – и крутится, и крутится, и крутится… никак не отвязаться!
«Как это никак?! — воскликнул вдруг однажды – надо прописать это, воссоздать детально бредятину, а там… там, гладишь, отвяжется!..».
И написал: «ПРИВЯЗАЛОСЬ – ОТВЯЗАЛОСЬ»
«…жёлтый лист – символист,
жёлтый лист – символист,
жёлтый лист – символист…»
ПРИВЯЗАЛОСЬ!
Только осень на дворе, – тупо глядя на древо, силишься что-то искреннее, глубокое вспомнить… и вот-те на! – «жёлтый лист – символист, жёлтый лист – символист…»
Нет, это уже нечто окончательное, гармонически завершённое нечто, этакая «вещь в себе». Аномалия, грозящая стать «нормой».
Нет, тут если вовремя не разобраться, не разомкнуть цикла, чёрт знает что вывернется из потёмок подсознания… да и само сознание помрачит…
Ну хорошо, разомкнём, успокоимся. Разберёмся.
В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…
Так? Так.
А чуть-чуть изменив: в начале было – СЕМЯ.
Итак, – миф.
Миф пал семенем в почву (скажем, в почву общеевропейской культуры).
Пал семенем-памятью дерева, памятью его, дерева, былого могущества, целокупности. И безгласным обещанием самоповтора всего цикла в целом —
цикла роста-цветения-плодоношения.
Это начало.
А далее? А далее – росток.
Это ветвится миф: свежими песнями, молодыми преданиями… и вот, чуть погодя, – цветение этих ветвей. Языческое буйство культуры, опыление будущего, завязи колоссальных духовных вымахов…
АНТИЧНОСТЬ!
Эвоа, эвоа, эвоэ!..
И – мощное эхо-вызов с востока: «Ой, Дид-Ладо!.. Таусень, Таусень!..»…
Но цвет сошёл.
И – ровное кипение листвы прокатывается по долгим эспланадам:
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ.
Эстетика равномерного зноя, внимательное вглядывание в себя, в потаённую сущность свою – плоскостную. А сквозь неё – в оконца иных измерений…
ЛИСТВА – ИКОНА
Да, похоже, что так: листва – плоская, тщательно выписанная (до складочек, до прожилочек) икона, просвечивающая Чрезвычайным, По-ту-сторонним…
Впрочем, в листве уже бушует завязь, постепенно оформляющаяся – в плоды. Так что же это? – Возрождение?..
ВОЗРОЖДЕНИЕ, ВОЗРОЖДЕНИЕ!
Плодоносящий сентябрь! – Собран урожай язычества. Всё уже свезено в закрома, в музеи, в галереи… выданы накладные, прикинуто сальдо-бульдо, нетто-брутто…
И что?
Всё снова плосковато, хрупко, прозрачно в мире. Осень. Листва. Увядание.
Грустно, но красиво. Этакая предсмертная, уже неземная краса… да это же —
ДЕКАДАНС!
Сплошные трепещущие догадки о подзабытом уже Чрезвычайном.
Смертельно перекрашенное, перекроенное, сильно побледневшее средневековье…
И вот здесь, именно здесь один уже только Символ способен (сквозь времена оборотясь) протянуться к Мифу, к первооснове, тайно зыблющей в себе земное и неземное, сущее и при-сущее…
…и недаром же это кошмарное:
жёлтый лист – символист,
жёлтый лист – символист…
жёлтый лист – символист,
А что за ним, за символом?
А за ним уже чахлый постсимволизм, постмодернизм, расшуршавшийся на столетие. Земляная опрелость, мутация форм, вызревание сквозь зиму нового мифа. Нечто взыскуемое, замороженное в глобальном холодильнике уже оттаивает и смутно обозначает себя в самом воздухе. – В прозрачном, студёном воздухе, где слабенько ещё мерцает, искрится морозными икринками зернистая, шаровая константа всесочленений нового мира…
…жёлтый лист – символист,
жёлтый лист – символист,
жёлтый лист – символист.
…ОТВЯЗАЛОСЬ!»
Пустыня
…отвязалось… всё-таки отвязалось от Великого наваждение – беспробудное пьянство. Стал пробуждаться. Пил всё чаще в режиме переменного тока, а не постоянного. Но и это не приносило полноты мирочувствования. Устал Великий однажды (это «однажды» потом, слава Богу, повторялось) пьянствовать и хандрить. Ненадолго, но устал. А ведь всё располагало к пьянству, даже к запоям – несчастливые шашни, хандра, дурь… многое другое. Всякое.
Решил найти крайнего, виновного в недуге. Даже в себе искал. Искал, и – нашёл! Не в себе любимом, а в порочном календаре.
Полистал, и – ужаснулся. «Да это что ж такое! Сплошные праздники! В церковном календаре – сплошь… ну, это понятно. Так ведь и в общегражданском! „День кооператора“», «День химика», «День физика», «День утилизатора»…день, день, день… всего на свете день, всего день, всего праздник!
Пьянь без просвета.
И наваял:
Праздничный террор
«Сердечной тоской, недостаточностью
Были празднички нехороши,
Широким похмельем, припадочностью…
Но был и просвет для души:
Меж праздничками, точно в паузе
Сердечной, забившись в тенёк,
Один был, царапался в заузи,
Как слесарь, рабочий денёк,
Хороший такой, озабоченный,
Сухой такой, узенький, злой,
Праздничками обесточенный,
Царапающийся иглой —
Как будто бы ключиком в дверце,
Мерцал и царапался в сердце…
Хороший, рабочий денек…»
***
Наваял стишки-отвороты, стишки-отпусты, и – подалее от соблазнов — ушёл в геодезисты. Благо, с детства мотался по изыскательским партиям. Со всей семьёй мотался: вполне терпимой маманей, молчаливой сестрой, ненавистным папулей-геологом. Много чему научился, летними сезонами шастая по жёлтым советским пустыням. Овладел приборами, хорошо зарабатывал. Сколотил состояние, по тогдашним советским меркам немалое – десять тыщ!..
Но все, потным трудом заработанные деньги выудила жена-шалава. Та, что втихаря зачала и родила от бомжа, убедивши Великого в отцовстве. Убедила, змея! Благородный Великий принял. Признал спроста — евонное чадо!
Может, хотел верить. Может, любил. Какое-то время точно любил. — Слепой, глупый, великий Великий… а она, гомоза рыжая, тощая, огромноглазая, кривоногая, злая, странно влекущая, с осиной талией обалденная колдунья, убедила. И – моталась себе по врачам да родственникам. Вообще чёрт знает куда и зачем таскалась. Умеют лярвы подсочинивать. А он платил. Платил и платил. За всё платил…
Но очередной полевой сезон кончился. А с ним и деньги. Как жить-кормиться? Подался на экскаватор – ненавистное, жвачное, чавкающее железной челюстью со вставными зубами чудовище. Пластался вусмерть, домой приходил в робе, заляпанной мазутом, воняющей солярой…
А шалава возьми и заважничай, барынька. Стала Великому в любви отказывать.
Вонь – предлог убедительный. Даже рабочая, честная вонь, приносящая денежку в дом. Мылся Великий тщательно, но уже не очень к тому времени переживал высокомерное «нет». Так уже наянила змеюка, что закрутил романишко на стороне. И даже писал-воспевал, идеализируя-романтизируя совсем простую, милую бабёночку. Душечку без подлых запросов.
Змеюка унюхала. И – айда терроризировать ревностью! Чёрт знает откуда она взялась, ревность, на каких основаниях? Взялась да взялась. А сама такая ко всему распустёха оказалась! Рассказывал, чуть не плача:
«…выходит, красава, из ванной, – висят…
С правой руки сопля, из левой ноздри сопля. Висят, свисают…
Какой, на фиг, секс? С распустёхой-то!..»
Долго терпел Великий, терпел бессловесно… жалостлив был, да и долг свой осознавал. Понимал, как ни странно, вполне традиционно: муж ответственен за семью. И точка. Ну, потом выгнал, конечно. Изгнал змеюку. Когда открылась подмена. Когда разул ребёночек глазки во всю ширь-полноту, а глазки — чужие. Не великие, не вспученные, как у Великого, а узкие-узкие. Точь-в точь, как у южного бомжа. Не стал Великий оформлять развод, купил билет да и отправил вместе с «байстрючонком» к… матери. К родной матери.
***
Нозаписал в тетрадке. Похоже, о себе самом:
«Хороший человек всегда дурак. Всем мешает, даже самыми добрыми своими намерениями. Особенно поступками…»
***
А змеюка-то всё разом смекнула: жена есть жена, попробуй отвяжись, откажи в прокорме ребёнка! И – насела на «папашку»! Через суды насела. И долго ещё не оставляла в покое. На выбитые из простодушного дурня шиши моталась туда-сюда. Возвращалась, виновато и волнующе для Великого опускала глазки…
Провинциальная «скромница», явившаяся неясно откуда, но ясно куда и зачем, неуклонно требовала, требовала, всё больше требовала! И Великий давал. Пока мог, конечно. Пока денежка не иссохла…
А в итоге почти всё, что осталось от того «романа» со змеюкой сопливой — несколько стихотворений. Воспоминания о «мазутном» периоде любви, да ещё о великой пустыне отыскались в разодранном, как и вся земная жизнь Великого, «архиве»:
«…и я, как сокол на скале,
Сидел себе в Бетпак-Дале.
И я в Бетпак-Дале сидел,
Сидел, во все глаза глядел.
Как хорошо во все глаза
Глазеть в пустыню, в небеса, —
Во все!.. а то один болит
Весь день глазеть в теодолит.
Он крив, чудовищен, трёхног,
Больной фантом, он сам измаян,
Он здесь чужой, он марсианин,
Косящий диковато, вбок.
А рейка — полосатый страж,
Фата-моргана, джинн, мираж,
Дрожащий в зное… о скала!
О сокол! О Бетпак-Дала!..
И я в Бетпак-Дале сидел,
Сидел, во все глаза глядел…»
* * *
«Медленно мысль проползает людская,
Роясь в барханах зыбучих песков,
Как черепаха, уныло таская
Вычурный панцирь веков,
Где мозгов —
Как в черепах
Черепах.
Да и всё остальное
Тоже смешное:
Череп, пах…»
* * *
И ещё что-то бредовое. От пустынного зноя, наверное:
«…ты слышал, как монах орёт?
«Анахорет!.. Анахорет!..»
В пустыне камню-великану,
Глухому камню-истукану
«Анахорет!..» —
Монах орёт»
* * *
Обезьяна в себе
Орал, гордился возмужавший, эклектически нахватанный Великий, чванился — он, дескать, создал «ненаучное дополнение» к частной теории относительности! Зря орал. Относительно это было. И относилось лишь к вопросу о расстояниях. Причём, расстояниях не глобальных, а всего лишь к дистанции между М и Ж:
«От каблука мадамова
До яблока адамова
Всего один шажок:
Возьмёт за горло сученька
Горяченька, подлюченька,
Улыбкой подкаблучника
Разлыбишься, дружок…»
Потом, однако, разгордился – показал людям. Зря. Никого не восхитило. Порвал, как много чего. В итоге остались от «дополнения» обрывочки:
«…всё-таки человек – мутант. Видимо, некогда к «обезьяне» был «привит» дух горний, т.е. нечто истинно человеческое, Божеское. ЭТО было привито, как благородная веточка к дичку, к тёмной, белково-углеродний твари. Получился со временем мутант. Человек. Но светлое, божеское в человеке не мстит природе. Мстит – обезьяна. Женщина в некоторых моментах – та же обезьяна. Кривляется перед зеркалом, губы выворачивает, – «вспоминает»…
Обезьяна в себе»
***
Из «Максимок» и «наблюдизмов»:
«Бог есть то, что есть. Я есть то, чего нет. Однако, карабкаюсь…»
***
«Церковь сильна и стоит – Тайной и Красотой. Власть – Силой и Тайной».
***
«Бог есть то, что есть. Ты есть то, чего нет. Однако, скребись…»
***
«Муха, медвежонок на крыльях…»
***
«Страшные жуки… небо скребут!..»
***
«…ввертилёты…»
***
«Бог есть то, что есть. Мы есть то, чего нет. Однако, стараемся…»
***
«С большой буквы – Пьяный»
***
Рассказ после мясокомбината:
«Сперва показывали тёлку. Потом разделанную тушу. Потом колбасу.
Потом снова доярку…»
***
«Печность. Во избежание беспечности необходима печность.
Именно печность. Жаркость…»
***
«…с трудом, удивительно легко запомнил усвоенные дедом заветы отца…»
О чём сие? Неизъяснимо…
***
Неизъяснимое осеняло Великого, курировало, вело. Куда? Никто не скажет.
Но вот тоскливого идиотизма мирного свойства недоставало. И он, как человек проницательного ума, осознавал это. А всё равно сносило на пути буйные, невразумительные. Скорбел, каялся, писал заунывные плачи. И брутальные заплачки, и вои, и… чёрт ещё знает что!
«…до свиданья, жизнь, окаянная,
Прощевай, злодей собутыльник!
Здравствуй, утро моё покаянное,
Здравствуй, белый мой брат, холодильник…»
***
Жизнь его, промысленная где-то в горних сферах не иначе, наверное, как житие, змеилась и пласталась пыльным долом.
Ему была предначертана судьба юродивого или блаженного, коим внимают, чтут и превозносят, многозначительно трактуют слова, поступки. И даже создают иконы для вящего прославления.
Увы, жизнь не дотягивала до жития. Точнее, она была равновелика житию, но в каком-то очень уж диковинном изводе. Скорее всего, тянулись параллельно две эти линии – одна видимая и грубая, другая нежная и незримая. Простирались единосущностью в бесконечное нечто, и всё никак не могли пересечься.
То, что они где-нибудь пересекутся, факт для меня настолько несомненный, что бессмысленно напрягать читателя излишними уверениями.
По крупицам тут, в обломках эпоса о Великом, размечена лишь пунктирная карта жизни, в которой он жаждал мира, творчества, любви. Его ли вина, что жизнь постоянно оказывалась грубее истинных чувств, помыслов? А нужно ему было совсем немного. Гораздо меньше, чем остальным. Любил по-настоящему лишь истинно простое, и самое великое по сути: луга, рощи берёзовые, реки, горы…
Но и там лукавый подбрасывал грязные грёзы. О, Великий, Великий! Почему же не хранил тебя твой Ангел? Почему так трудно ты шёл через мир?
И сваркой глаза выжигал, и на огромном экскаваторе надсажался, да так, что без поллитры после смены заснуть не мог. И превращался в дебила, и писал злобное нечто, про долю-недолю земную. А зачем?..
Зачем надсажался, как дебил? Деньги. Ничего нового, просто деньги. Завёл жену, родился ребёнок. Ценные книги на чёрном рынке кусались так, что…
Да ещё, как назло, к тому времени пристрастился к настоящему чтению. Надоели грязные авторы, голодными шакалами кинувшиеся вдруг описывать все виды извращений, орально-анальные и прочие выкрутасы. Это уже разрешили, а настоящее всё ещё пребывало под запретом. Странные были времена.
Цензура, уже полусоветская, перманентно совершала невообразимую глупость – запрещала книги старых русских писателей, эмигрантов, философов. Даже поэзию эмигрантскую, не имевшую никакого отношения к политике, запрещала.
Когда зарубежные писатели спрашивали советских товарищей: почему бы не печатать востребованные книги, те отвечали с душевною простотой – с бумагой в стране напряжёнка. Зарубежные товарищи изумлялись: как, у вас нет бумаги, чтобы печатать деньги? Не печатали…
Над глупостью этой долго и горько смеялись. Все. Великий же молча и сурово решил задачу – пошел в УМС, кончил курсы, сел на экскаватор, где платили круто по советским меркам – от трёхсот рублей и выше. В итоге, остался творческий след. Увы, невеликий. Обрывочки:
На карьере, на закате…
«Будто бредит грузный варвар
Вгрызом в сахарны уста,
Будто грезит грязный автор,
«Пласт оральный» рыть устав,
Церебральный экскаватор
Дико вывихнул сустав,
И торчит, сверкая клёпкой,
И урчит, срыгая клёкот,
Будто грёзу додолбил
Засосавший вкусный локоть
Цепенеющий дебил…»
Индюк думал…
Дебил? Были признаки, были. Хотя… в какие выси порой заносило! Даже в ранние годы. Не каждого занесёт.
Когда Великий узнал в последние школьные годы, что стихи бывают не только длинные и противные, спросил обнадёженно: «А сколько, минимум, строк бывает для счастья?..».
Я ответил – «Три».
Объяснил, что есть в стране Японии Танкисты и Хоккеисты. Танкисты пишут пять строк, Хоккеисты три. Произведения в этом жанре называются соответственно «Танка» и «Хокку». Дал почитать антологию японской лирики.
Танкисты Великого почему-то не заинтересовали. А вот хоккеистами очень даже увлёкся. И много в том преуспел. Для начала составил коротенькое лирическое хокку с длиннющим названием. Кстати, не в последнюю очередь поразило Великого то, что названия у «хоккеистов» были порою длиннее самих миниатюр:
Проходя по шумному городу, вижу одиноко грустящую девушку
«Сердце сжалось от нежности.
Среди гвалта и сумасшествия, на опустевшй скамейке —
Русая тишина».
Я похвалил.
Великий вдохновился и – записал!..
***
Дико работоспособный, одержимый творчеством, да и любой работой, подворачивающейся, как водится непредсказуемо, через месяц принёс на погляд мешок трёхстиший, которые трудно было отнести к образцовому «Хокку», ибо ни слоговых, ни ударных законов там не соблюдалось. Да и тематика слишком уж не по-японски созерцательная… похабненькая выныривала.
Что тут попишешь? Русским был до мозга костей.
И всё же самое чудовищное из гадовых трёхстиший я запомнил. Именно в силу чудовищности и русскости. Да оно так и называлось: «Русское хокку»:
«Осень…
Усы падают
В суп…»
А ещё «Утреннее хокку»:
«По чёрной зеркальной глади
Белые скользят облака…
Кофе пью на балконе!»
***
А ещё «Ночное хокку»:
«Снял нагар со свечи. Зажёг…
Упёрся в чернозеркалье окна…
Непробиваема ночь».
***
Хорошо запоминать, иногда и записывать, пусть глупое, о быстротекущей…
***
На уроке литературы, при обсуждении «Главной Глыбы», романа «Война и мир», халдейша потребовала кратко сформулировать замысел и сюжет эпопеи.
Глупее, кажется, нельзя придумать. Великий придумал. – Зарылся пятернёй в рыжие, ещё вполне кучерявые волосы на бедовой своей головушке, задумчиво устремил карие, ещё не выцветшие глаза в старый дощатый потолок, по которому оборванной струной завивалась электропроводка, и рек:
«Болконский князь был старый
И молодой,
Седой владел – гитарой,
Младой – дудой…»
Докончить импровизацию, а по сути литературоведческую экспертизу не дал халдейшин визг: «Вон, вон из класса, сволочь!.. К директору!.. И ни с родителями, ни без родителей не появляйся больше… никогда, никогда!..».
Но директриса простила. Эта сочная дама, по счастливому стечению обстоятельств, недавно познакомилась на курорте с громадным папулей идиота. Воспоминания, видимо, остались не самые плохие, и она решила не омрачать их изгнанием отпрыска.
И Великий таки закончил школку. Пусть и с немалым опозданием.
Впрочем, периодически мстя за нелепо проведённые в заведении годы. Мстил стишками, часто несправедливыми:
«Высокая болезнь поверх барьеров
Приличия скакала каплей ртути,
Безрадостной без градусника. Груди
Без лифчика тряслись. Для пионеров
То было круто: завуч, молодая
Учительница первая, а вот,
Литературу, мля, преподаёт,
Грудями авангардными бодая…»
***
И ведь не просто закончил школку! Злил халдейшу ещё не раз. Что замечательно, полем битвы оказывался всё тот же Толстой, боготворимый халдейшей. И она его упорно впаривала, в нереальном для балбесов объёме.
Имела однажды неосторожность доверительно поинтересоваться у класса: какой из романов гиганта более всего люб? Класс настороженно молчал. Но Великий не мог упустить такой удачи, бойцовски вскочив из-за парты, разрубил тишь:
«Анна и Каренина!»
– «Что-о-о? – изумлённо завыла несчастная и, наливаясь багрянцем, простонала коронное – вон, вон, вон из класса!..»
Стон был охотно удовлетворён. Но уже на самом выходе, приоткрывши дверь, Великий, выдохнув неизбывное «Гы-ы-ы…», победно прохрипел на весь грохочущий, мощно резонирующий пустотами коридор:
«И – Вронская!..»
Это было настолько дико и ошеломительно для бедной учительницы литературы, что даже не стала выносить исторический факт на педсовет. А посему, посильно латая дыры, честно воспроизводим. Из песни слова не выбросишь. А это, согласитесь, была не худшая, хотя и сдобренная изрядной долею хрипотцы, песня.
***
Шли годы, шли… ползли, кувыркались, летели. Но людям свойственно, как это не прискорбно, стареть. В любое время года, века. Стареют, невзирая на скорость продвижения в пространстве-материи. Старел и Великий. Но стишки, строчки о всяком разном рождались, заполоняли бумажки, тетрадки…
Старел… а ровесниц своих вспоминал, иногда со слезой. И плакал, и пел, и воздыхал. Сожалел об утраченном. Якобы утраченном. Ибо любил всегда одну лишь только Тоньку. А она, сука, урыла в другую страну. Навсегда. И ранила Великого. Навсегда. Но он, сильно уже поветшавший, траченный, словно молью, жизнью,
выдал-таки, песнь. Гимн ровесницам:
«…уже не потянешь любую подряд
В театр, в подворотню, в кусты,
Про девушек наших уже говорят:







