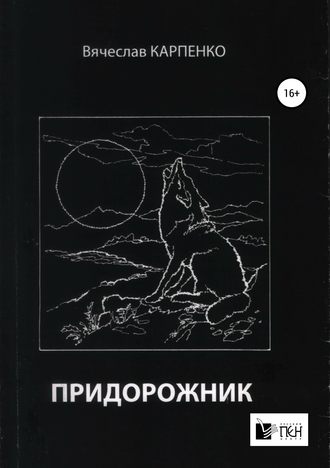
Вячеслав Карпенко
Придорожник
3
«…Хороший парень – это не профессия, ты человеком будь!»
(Из разговора на палубе.)
…Казалось, не задался у нас этот рейс с самого начала.
Уже потому не задался, что какой-то болван запланировал наш отход на пятницу. Конечно, это все предрассудки – какая там разница, в какой день выходить? Только лучше бы на пятницу отход не планировали. Приметы не врут. Портнадзору что – лишь бы скорее вытолкнуть по графику, сам-то он с берега нам помашет. А махать в пятницу ручкой – это тебе не в море выйти!
Ну, положим, и мы не дураки – в пятницу выходить. Вот тебе и предрассудок: в главном двигателе что-то забарахлило как раз в самый этот раз. Не пускается наш главный двигун, хоть механики бьются там, еще и цивильных костюмов сбросить не успев. Не пускается, хоть мы сверху сочувствие выражаем и последние свои береговые капли отдаем – барахлит двигун и все тут! Заведется он ровно в двадцать четыре ноль-ночь, как только субботе начаться…
Но важнее другое: не задался рейс в самом деле потому, что нашего прежнего капитана сменил в этом рейсе новый. И никто из команды о нем и слыхом не слыхивал… А с прежним мы несколько рейсов ходили на этом траулере, который у нас «Мерефой» называется. Добычливо ходили, себе позавидовать можно.
Девушку из маленькой таверны
Полюбил суровый капитан…
Это пел перед отходом бондарь Витька Сысоев на палубе, перебирая струны гитары, играть на которой он не умел, но очень любил. Витька попал дневальным на отходе, и к вечеру его не сменили, потому что он холостой, а механики все равно должны были провожжаться до полуночи. Так что никто из провожающих не уходил, а Витька сидел на задраенном и обтянутом брезентом трюме и пел про эту самую девушку «с глазами дикой серны», которую полюбил капитан.
– Вить, а нашего нового как зовут?
Сысоев обычно все знал раньше других в силу певучести своего характера. Но тут даже он сплоховал: «А черт его знает, этого нового кэпа… И вообще, ребята говорили: он всю жизнь старпомом где-то ходил. Наш-то Трофимыч умел ловить! Чует мое сердце, не будет с этим старпомом удачи… черт его фамилию знает…»
– Скребцов моя фамилия. Валентин Степанович Скребцов, – раздалось рядом с нами, и новый капитан выступил из тени от рубки, откуда-то прямо из лебедки, что ли, он выступил.
Так себе был капитан, ничего приметного, кроме формы: все галуны положенные сверкают. А ведь только вчера, небось, назначение получил! Посмотрим, конечно, только не будет из него хорошего рыбака, чего бы иначе он в старпомах так долго сидел?..
– Вы почему, товарищ матрос, поете? Работы на отходе мало? Вот тряпка какая-то на палубе валяется, а вы… поете!
Ну точно, старпом он закоренелый, заавралит он нас, если рыбы не будет. Трофимыч-то таких вояк и близко к судну не подпускал, хоть и драл с нас три шкуры в работе…
– Я не матрос. Я – бондарь! Может, мне сойти прикажите? На берегу попеть? – Витька Сысоев за словом в карман не лазал, и цену себе знал – таких бондарей поискать было на флоте. Молоток у него смычком летал, не то что струны его гитары однотонной.
Новый капитан, Скребцов этот В. С., молча повернулся и ушел в корму. Его что, никто не провожал? Нет, не задался у нас рейс с самого начала, что говорить…
Была середина мая. Погода в это время неустойчивая – весна. А волна на Балтике неприятная – крутая, резкая, все в тебе выворачивает; зато сразу переболеешь, все береговые напасти заодно из тебя выкрутит. А до промысла еще несколько суток, у всех есть время от берега отдохнуть, в ритм войти.
Это ерунда, когда кто-то хлещется: я, мол, такой, для меня, мол, никакой морской болезни не существует! Заливает этот «волк». Потому что нет такого моряка, которого море не бьет – по-разному, конечно. Словно сразу предупреждает: все игрушки-бирюльки на берегу остались, здесь шуточки лучше не шутить!
Одного несколько часов поколотит, потошнит малость или настроение сядет от вялости, на кисло-соленое потянет, как женщину в положении интересном, благо кадка с капустой в начале рейса всегда на виду стоит. Другого на несколько дней и в койку уложит, на палубу потянет рыб покормить. Тоже ничего страшного, себя превозмочь в какой-то момент надо и сиднем-бездельем не сидеть, пройдет. Третьего так измочалит, что шабаш – наплавался. Не принимает его море, хоть с детства камушки по воде плескал. И пересаживают такого на первый попутный траулер: прощай-моряк-привет-пешеход…
А море бьет всех: и того, кто десять лет ходит, и кто вчера на палубу ступил, и кто только три недели после рейса на берегу отдохнул – всех предупреждает море, чтобы не задавались шибко. Да у нас команда уже подобранная, без выпендрёжа дело знаем.
Середина мая была, весна. В проливах Зунд, Каттегат, Скагеррак заблудились туманы. И наша «Мерефа» наощупь, под гудки и бой колокола-рынды, медленно пробиралась к Северному морю. Рында – это, конечно, больше для традиции и красоты, но иногда траулер только бок о бок расходился с каким-нибудь неизвестным судном, так что только медный перезвон напоминал о жизни в этом тумане.
А на выходе в Северное море нас встретило солнце, штиль, хороший прогноз на погоду. И плохой – на рыбу. Но мы-то как раз за рыбой сюда и шли, впереди три с лишком месяца – их работать надо, загорать мы и дома можем. Флагман сообщил, что весь флот недалеко, на границе Северного с Норвежским, большинство в пролове, но лучшего и нигде нет. Здесь, мол, и будем, дальше не ходить, дальше разведчики пока бегают.
Все, что флагман кэпу передавал, мы узнавали от маркони-радиста, он нам все новости доводил. Даром что он капитанский радист – вместе они пришли, – а парень отличный оказался. «Оказался» – потому что за разочарованием в новом капитане мы не сразу и приметили еще одного новенького. У всех радистов в море одно имя, это он на берегу Петр, Спиридон, или там Эдик, в море же все они – «Маркони».
«Капитанским» наш новый маркони даже дважды оказался, он сам и рассказал: и ходил с ним, Скребцовым, раньше, когда тот в старпомах был, и родственники они какие-то. Родственников, известно, не выбирают, только ему можно было поверить, что от этого еще больше придирок получается. А отказываться, мол, с ним снова идти – неудобно, вроде посочувствовал, «хоть один знакомый на новом месте нужен» – так его кэп уговаривал. Да и молва о добрых заработках на «Мерефе» соблазнила. Так, дура, заработки-то те от Трофимыча…
Может, и перебрал маркони насчет лишней к себе требовательности, чтобы мы его сразу не отвели, но парень он отличный оказался, компанейский, веселый. Ленивый, быстро проявилось, но маркони почти все такие, им это прощается, потому что они «одним ухом на земле стоят», а каждому охота радиограмму лишнюю отбить-получить. К тому же, при любой рыбе, при любом аврале не трогают их в работу: одна забота – связь постоянная, руки у него, как у пианиста, всегда здоровые должны быть, без связи в море пропадешь. Зато, когда все на палубе вкалывают, когда уж и спины затекают и руки виснут вдоль тела сами, как включит маркони радио на палубу, да такое что-нибудь забористое – сами руки задвигаются, хоть ты уже трижды по четыре на палубе отпахал. Такая их нужная работа – людей веселить, радовать и между собой связывать…
Так вот, не везло нам с самого начала, хоть маркони компанейский попался, хоть погода баловала, да и работать все хотели. Не везло. Новый капитан букой ходит, в кают-кампании, где все обедаем и по вечерам кино крутим, почти не показывается, пока попросил даже еду ему в каюту приносить. А голос его только вахтенные и слышали, когда курс давал, да еще бригадир с рыбмастером, когда он их советоваться вызывал. «Советоваться»…
Наш Трофимыч так иногда мог «посоветовать» кому-нибудь – аж уши трещали, сам все знал. А работать заставлял – жилы лопались, он же только поддавал с крыла по первое число да смеялся: «После кассы отдохнете, бубны-козыри!» И в салоне язык почесать не последним был: свойский парень, только ему не перечь лучше, даже когда неправ – спишет к чертовой бабушке, ищи после такого добычливого. Вообще-то, если честно, мы при нем немножко пиратами были, обижались на нас свои моряки: обмечем чужие порядки, нахрапом возьмем рыбу из-под носа товарища, хоть тот и раньше сети вымечет. Наш-то: перекроет косяк – в наших сетях «шубу» рыбную валит, а сосед пустыря хлебает. Умел. И сходило.
Не задался рейс. Все одно к одному. Капитан молчком себе думает, с промысловиками «советуется», флот в пролове. А тут еще эхолот полетел, не пишет ничего, когда рыбу искать надо. Вот и начали бегать за мелкой рыбешкой по пеленгам разведчиков да товарищей по отряду. Сети, считай, вслепую сыпали. Их ведь утром, все одно, что полные, что пустые – вытаскивать надо… И, вроде все чин по чину начинали: когда первые сети выметывали, кок наш Николай испек огромный крендель из лучшей муки и сам к началу “вожака”[2] привязал – мол, чтобы сразу к Нептуну подарком нашим попал; и деньги все, какие у кого от берега остались, за борт под первую сеть бросили. Даже капитан новый, Скребцов В. С., усмехнувшись чему-то не очень весело, все карманы вывернул в море – мы специально смотрели. Ан, нет – пустырь пришел…
Бухтеть мы потихоньку начали по кубрикам.
Маркони притих, его капитан, видно, насчет эхолота накрутил: тот у себя в рубке заперся, нас без новостей оставил. С эхолотом колдовал, а может, спал – музыка там в рубке жужжала потихоньку, не унывал он. Но через несколько дней ведь починил-таки эхолот!
И мы бегать начали, море винтом взбивать. Несколько суток бегали. То кругами, слышно только, как реверсы меняются – то малый, то средний, то стоп и назад. А то – как зарядим без остановки на самом полном, полсуток летим, только рулевые меняются да анекдоты знакомые обсасываются… Капитан, правда, из рубки даже поесть не выходит. Носимся, забыли, когда и сети сыпали. Нас, конечно, кэп через боцмана красить что-то там заставлял, судно мыть, а чего его мыть – и чешуйки рыбьей не сыщешь, да и не в порт же идем. Ну точно, старпом он закоренелый, этот Скребцов, куда ему с такой фамилией больше. Заавралит он нас водными да пожарными тревогами, хоть засохнет там у эхолота. Заавралит, а без рыбы – кому надо…
Потом вдруг заполночь – ни одного огонька вблизи, ни одного судна другого рядом не слышно – ударил звонок на выметку. Двигатель замолчал – в дрейф легли. Так, дрейфуя, и выметали сети. Да не сто-сто-двадцать, – все равно наутро пустыря тащить, так не пожалел же нас, зараза! – а все сто пятьдесят велел ставить. Хоть смех тот на нашем горбу скажется, но посмеемся над ним – завтра. Сегодня хоть ночного подъема по шлюпочной тревоге не будет – он нам еще, кажется, шлюпочной не устраивал!..
Не рассвело еще, а звонок задергался по кубрикам – ах, чтоб тебе… Чего он там еще придумал?! Одевались медленно, глаз не раскрывая: трещётка нас подняла, а разбудить не сумела. Шторма не ощущалось, как и вчера шла по морю длинная долгая волна – это было дыхание очень далекого шторма, но не сам шторм. Траулер медленно, сонно поднимало на пологий гребень протяжной волны, так же спокойно, будто осторожно, опускало. Неторопливо одеваясь, колебались – надевать ли робы резиновые, зюйдвестки. Или в ватниках достаточно выскочить да в сапоги налегке всунуться: отделаться и назад – в койки.
Только здесь бригадир влетает, очумелым голосом орет – буи, мол, притонули! А буи притонули – выбирать сети срочно, если не хочешь весь порядок потерять: рыба в сетях и не малая, от малой рыбы буи не притонут.
Надо ж, повезло кэпу. Случайно видно ночью косяк нагнало. Тут уж мы глаза продрали, заторопились: и портянки намотали, и робу натянули, и ножи шкерочные похватали – сколько ее ни будь, а резать-потрошить придется, не зима. В первый раз за рейс, неужели пофартило?..
А рыба шла. Сетка туго переваливалась через рол, свободные моряки уже начали ее резать. И погода – как на заказ. И чайки весело горланили над сетями, пророча еще большую рыбу. Чаек мы все любили, они сопровождали нас, куда-то улетая лишь к вечеру и рано утром появляясь снова в надежде на легкую добычу. Кажется, мы даже узнавали среди них знакомых, во всяком случае, сегодня их суматошные крики сулили удачу, и мы радовались этим крикам, и бросали за борт порезанных сетью селедок, и с удовольствием смотрели, как птицы целой гурьбой падали в воду – сегодня всем хватит!
В таком настроении нам не хватало лишь музыки, но маркони уже догадался и шарил в эфире. Эфирная разноголосица, которую он – случайно ли, нарочно – дал на транслятор, так точно вплелась в возбужденные крики чаек, в шорох шпиля, наматывающего вожак, в потрескивание рола и стук ножей на разделочном столе – так точно вплелась в наш ритм та эфирная разноголосица, что хотелось обнять весь этот мир зеленой колышущейся воды и голубого неба, обнять даже нового капитана, Скребцова того Валентина Степановича, пусть он и случайно напал на эту рыбу.
А рыба шла. И лилась музыка. И некогда уже было прикурить. И все, даже «дед», пришли на палубу шкерить рыбу, хохотать старой шутке и давать темп резки. Хотя кто же угонится из Витькой Сысоевым, бондарем, или за нашим «рыбкиным» Петровичем – они могли по сто пятьдесят голов в минуту резать, а потом бежать к своим бочкам, солить, забивать, откатывать. Никто за ними не успеет, а – стремятся, просто так стараются – из лихости и хорошего настроения. «Отец родной» Николай всех чаем обносит, почти в рот куски сует и не хочет на камбуз возвращаться, где ему в одиночестве обед готовить нужно. Даже у кэпа – везло б ему тысячу лет! – там, на крыле рубки, вроде лицо потеплело, или от солнца так кажется? А рыба все шла…
И всю наступившую ночь мы выбирали рыбу, останавливались и резали, и снова выбирали. И не обижались на подвалившую работу, хоть и тяжеленько то веселье доставалось – обедать и ужинать по очереди бегали. Но выбрали-таки все сети.
Забили трюма – семьдесят пять тонн за двое суток, еще и на палубе в брезенте тонны три недошкеренной рыбы оставалось, когда кэп через бригадира всех спать погнал. И то – большинство так не раздеваясь и упали… А траулер уже курс на базу взял. И кого там капитан покрепче нашел, чтобы у штурвала стоять?
Когда проснулись, к нам в кубрик маркони завернул. Новость удивительную принес, даже старик Петрович, рыбмастер, пришел послушать: капитан-то новый пеленг пашей рыбалки на весь флот передал, туда сейчас все суда бегут. Наш прежний кэп Трофимыч уж такое не отмочил бы – втихую сдал рыбу, да назад. Там второй груз, наверняка, взять можно… Н-да… С какого-такого богатства капитан уловом нашим разбрасывается?
– А что, – пожевал папиросу Петрович. – Может, его сермяжная правда здесь есть. Весь ведь флот в прогаре… не куркуль…
Витька же Сысоев выгнал нас на палубу: терзать свою гитару принялся многозначительно – «повезло, мол…»
Такой рыбы у нас в этом рейсе больше не было. Но и пустыря тоже не таскали, три-пять тонн почти постоянно брали. И не надрывались, и без работы не сидели. Теперь уж на подвахту только желающие приходили, но кто же откажется рыбу пошкерить в компании, когда на палубе солнце, когда чайки горланят, когда через музыку байка проскальзывает, когда – настроение, кто же откажется?
И вот этот день.
День, в общем, как другие. Только усталости чуть больше, чуть желаннее отдых – груз снова добирали, к походу на базу дело шло.
Резали не торопясь, музыка плыла медленная, чайки примелькались, к солнцу приленились – по пояс голые трудимся, июнь начался… Правда, маркони передал, что шторма ждут в нашем районе, но сейчас не страшно и несколько деньков шторма – отдохнем чуть от рыбы, да пока к базе сходим, утихнет. Летние штормы они недолгие. И вот этот день. Резали потихоньку, музыку маркони поймал медленную, чайки за рыбой у борта падали на воду неторопливо.
– Гля-ань-ка!.. – пропел Витька Сысоев.
Глянули: маркони с улыбкой на палубу вышел, что-то в руках держит.
– Эксперимент! – говорит.
И подбрасывает в воздух чайку, как он ее поймал только? Но чайка та уже не белая, и синевой снежной под солнцем и небом не отдает. Пестрая какая-то чайка, вся в красных, черных, зеленых до ядовитости пятнах и полосах, где он только краски добыл?
– Во-он зачем ему краски понадобились… «По-нем-ножку-у…», – протянул боцман.
А чайка, что маркони выпустил, – ее уж не потеряешь из виду, – испуганно пролетела в сторону, почти скрылась. Но тут же и назад вернулась. Туда, где ее сородичи над рыбой переругивались. Тоже – за рыбой, или просто к своим, кто ее узнает.
Только теперь не была она «своя»: сперва одна-другая, потом многие, а там уже и вся стая набросилась на пеструю чайку. Гомон недобрый, невеселый хрип они подняли, громкий и противный визг над траулером завихрился вместе с клубками птиц. И каждая стремится ударить разрисованную нашим маркони чайку. Только потому, что белых чаек было много, и они мешали друг другу, «эксперимент» не кончился сразу.
А она – пестрая птица-чайка – явно не понимала причины общей вспыхнувшей ненависти. Она металась от одной товарки к другой, может быть, среди них была и вовсе близкая, чайка металась, словно крича: «Да это же я!.. я! Почему вы не узнаете меня… За что?..» Или что там она еще кричала… кто узнает, но «эксперимент» кончился, и пестрокрылая чайка пропала.
Маркони улыбался, повеселил он нас славно.
Плыла медленная музыка, мелькали деловито белые чайки, сверкало солнце на рыбьей чешуе, сверкало повсюду.
– Мда-а… – протянул Петрович, рыбмастер.
– Во-он зачем краска, – шевелил губами боцман.
– Да-а, экс-пери-мент, – тихо и по складам выговорил Витька Сысоев, который ближе всех стоял к маркони и потому первым ударил весельчака.
Слабо ударил, тот не упал, только отлетел к лебедке и, схватившись за скулу, непонимающе уставился на нас. Мы отвернулись – надо было работать дальше.
Маркони ушел к себе. И щелчком прервалась музыка.
– Пойди к капитану, – сказал мне рыбмастер, распрямляясь над бочкой, которую он только что откатил, – Пойди к капитану, будь они хоть десять раз родственники. Пусть эта гнида идет на палубу и занимается делом. И пусть капитан отправляет его первой оказией. А то, не приведи боже, конечно, его с крыла первой волной смыть может… Так мы думаем, – Петрович обвел всех взглядом, он был самый старший на палубе, и он дольше всех ходил в море.
Я и сказал все это Скребцову Валентину Степанычу. Кроме волны, конечно, всё сказал. «Работайте…», – ответил он. Еще сказал, чтобы Петрович к нему зашел: «…Сысоев пока поработает за рыбмастера».
Говорить с маркони мне было трудно: он не понимал. Но в волну, судя по лицу, поверил. И на палубу вышел, и шкерочный нож взял, который ему бондарь бросил.
Нигде маркони не трогают в работу на палубе, его забота – связь постоянная, у них на судне своя работа нужная – людей радовать и меж собой соединять.
У этого кончилась такая работа. Взял он нож шкерочный, резать рыбу начал под тишину нашу. Но недолго резал – швырнул нож почти к ногам моим, убежал, зубами заскрипев.
А Петрович как раз от кэпа вернулся.
– Нормальный он человек, – сказал рыбмастер. – Поработаем еще. При мне дал радиограмму на базу о замене нашего… экспериментщика. Стучит сейчас свою отходную. Не повезло кэпу, конечно… подолгу мы на берегу не бываем, что ж поделать, судьба. Сына вот и упустил… мм-да-а… рейс. А туда же – «седьмая вода»…
Лежит теперь тот шкерочный нож у меня в столе, хоть и траулера нашего и в помине уж нет. Не очень и видный нож, весь потемнелый, источенный частой правкой.
И кажется, стоит его лизнуть, и теперь, наверное, ощутишь горечь соли.
4
«Ты только не злись на меня, но…
я устала. Так жить очень тяжело,
Устала! Я уезжаю от твоего моря,
Я больше не могу…»
(Из письма в море)
Море было спокойно. Насколько может быть спокойна Северная Атлантика в феврале. И шла рыба. У всех ныли руки и спины. В те несколько часов, что выпадали свободными в сутках, матросы спали крепко и без сновидений. А утром снова серебристый поток заливал палубу логгера, подвахта сменяла друга друга; только палубная команда – наскоро поев и выкурив по мятой, влажной то ли от воды, то ли от пота, сигарете – продолжала раскачиваться в такт судну, упираясь раставленными ногами в палубу; продолжала наваливать новые потоки сельди, катать бочки, майнать их в трюм. Была усталость. Но это усталость удовлетворенная, умиротворенная результатом, усталость от хорошей работы, ведь и шли за ней, за рыбой: рыба – план, заработок, гордость и подарки, отдых на берегу «на всю катушку»…
Шла рыба. Большая рыба.
Святослав, конечно, тоже радовался улову. Он обещал Марии с дочкой взять отпуск и слетать куда-нибудь на юг, заехать к ее родителям, которые не видели еще маленькой Наташки. Бросить море он не мог, как настаивала жена, – что он, боцман, будет делать на берегу? Море давало ему уверенность, да и привык он за эти пять лет. И к хорошим заработкам привык, и к тоске, которую давали рейсы: на берегу он ждал моря, в море – вспоминал берег. Разве может быть жизнь полнее этого…
Порыв ветра ударил холодной солью и согнал улыбку с губ боцмана. Святослав только сейчас по-настоящему почувствовал, что прошло уже три с лишним месяца рейса, что тоска нет-нет да перехватывает глухо дыхание. Почти месяц впереди, а писем нет. Нет и нет. До сих пор его удовлетворяли редкие радиограммы с трафаретным текстом пожелания удачи. Что ж, суеты на берегу много. Но письма, письма – их не пришло ни одного; в море так не бывает, не должно быть…
Траулер спешил к плавбазе, солидно переваливаясь с волны на волну. Еще бы: трюмы полны рыбой, и траулер знает цену своей работе. Палуба, сверкающая стекающими потоками встречной волны. Люди, переполненные ожиданием вестей с берега, почты на базе. Траулер торопился во все свои четыреста лошадиных сил главного двигателя…
Вот она – база. Громоздится среди маленьких тральцов, медленно, почти незаметно, покачиваются ее борта; с логгера надо далеко запрокинуть голову, чтобы увидеть людей на палубе этого плавучего центра флота.
Да черт с ней, с очередью на сдачу рыбы! Рыба-то подождет, нашу почту отдайте! – Одним касанием судно тычется в борт громадины-матки, словно целует ее после разлуки, а сверху летит пакет с почтой, разорвать который тянутся десятки рук.
Боцман в стороне прикуривает новую сигарету от окурка, хотя это его обязанность и привилегия – ловить пакет. Кому хочется поймать на себе сожалеющий взгляд соседа, которому неловко станет перед ним за радостную пачку писем, любое из которых и даже несколько уступил бы опять ничего не получившему боцману… Это ж представить только, никто бы не выдержал такого, за что!..
Святослав стискивает зубы, чтобы жалость к себе не хлынула в него, это еще хуже сочувственных взглядов – жалость к себе, ест она тебя живьем, руки тебе опускает… Он курит в стороне от разрываемого пакета и лишь по окостеневшему лицу, перечеркнутому отросшими за рейс усами, да по его явному намерению уйти прочь с палубы – можно понять, как он ждет, ждет, ждет…
– Усы! Пляши, боцман!
Святослав аккуратно сплевывает недокурок и неторопливо берет протянутый конверт. Осторожно ступая, словно боясь расплескать радость, уже расслабившую лицо, несет конверт в каюту.
Там, наедине, распечатывает. Знакомый почерк!… И незнакомые, сухо-официальные слова. «Встретила… Прости… Ждать так трудно… Наташка здорова… Не ищи и не огорчайся. Ты так долго был в море…»
Перед глазами поплыло, вдруг выплыла елка, нарядная елка – конечно, и этот год она встречала одна… Да, боцман, другой нет у тебя специальности. Елка загорается такими яркими огнями. Гарь… гарь сожженной его деревни, а мать копает землянку для пятерых, и все мал-мала меньше… Протоптанная семилетняя тропинка в школу, что в соседнем, за шесть километров, селе. А потом – топор и запах свежеструганных бревен, и работать, кормить… А море дало уверенность, да и средства, что говорить. И она, Мария, радовалась тогда его возвращению и его рассказам, и они вдвоем – только вдвоем, это чуть позже можно встретиться с друзьями, только вдвоем, – выпивали приготовленное ею вино, съедали все вкусные салаты, что любила она готовить, совсем рано укладывались спать, и ему было приятно, что кровать не раскачивается, и еще пока не хватало этой постоянной качки…
«Ну, конечно, и опять елка без меня. Но ведь возвращался, я всегда же возвращался – домой, к ней. А она тоже живой человек. Образование… ерунда, вон уже библиотека какая… Да… ведь много людей ходит в море, штурмана, механики… не могут без рейсов, не в одних деньгах… и ждут же их. Не у всех же… Да ведь предупреждала, что не может так долго, сам…» – Он снова посмотрел на письмо со знакомым почерком. «А вот у тебя – так!»
– Стас, тебя старпом зовет.
– Да-да, иду…
А теперь – как? Стихи писал, втихомолку… плохие, ей. Кто в море не пишет стихов? Цветы после рейса в любое время года… Кто из моряков не приносит цветы? Но ведь квартиры не было все равно, а море… что ж, оно – море. А – дочь, Наташка?
– …Боцман, слышь, што ли. Ну и дыму здесь, ты не к котлу подключился? Заболел? Там старпом зовёт, на якорь становиться будем, – матрос покачал головой и полез по трапу.
– Хватит!
– Чего?.. – свесился моряк.
– Я говорю – работать надо, идем… – Святослав натянул куртку и поднялся следом.
…А дни за днями разменивали месяц. Медленные дни. Длинный месяц. А в месяце – тридцать ночей, и тридцать раз наступает утро, и сны уходят…
Рассвет – как враг.
Торопится рассвет.
…Бледнея, пропадет плечо:
Ты рядом, но тебя и рядом нет.
Лицо угасло. Времени подсчет
Здесь бесполезен – вековой,
минутный…
Как ни старайся, все перечеркнёт:
Лицо угасло. Наступило утро.
Святослав смял листок, бросил, взял чемодан. «Плохие стихи… Кто в море не пишет стихов? Кто из моряков не приносит цветов… в любое время года?» В городе пахло осенью и треснувшими арбузами, хотя была весна. Траулер слегка чиркнул изржавленным бортом о причал, потерся немного и протянул сходни к берегу, словно сливаясь с ним в рукопожатии, словно примиряя море с берегом. «Ловко швартовал, кэп…» – машинально подумал боцман и ступил на сходни.
– Так ты самолетом, Стас? – капитан перегнулся через крыло рубки и сочувственно посмотрел вслед неловко еще ступающему по земле боцману, который сбрил усы, но не снял этим ни усталости, ни заботы.
– Привыкай по земле ходить – не качается, а?! – попробовал пошутить капитан. – Бывай, Стас…
В городе пахло осенью и треснувшими арбузами – от тающего снега. Но была весна.


