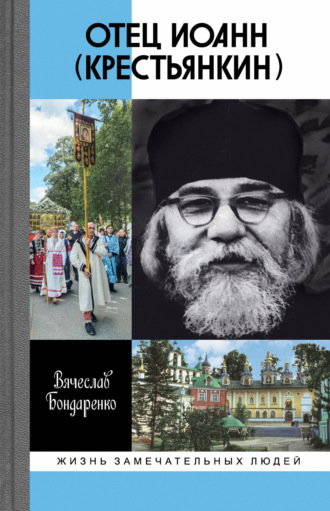
Вячеслав Бондаренко
Отец Иоанн (Крестьянкин)
А что до неосуждения, то в проповедях о. Иоанн неоднократно говорил о том, что это – кратчайший путь к спасению. А между тем мы, как сказано в одной из его проповедей, «поднимаемся своим мнением и судом и над ближними, и над дальними, и над малыми, и над великими. Мы судим, когда знаем много, мы судим и тогда, когда ничего не знаем; мы судим со слов других». И даже когда «милость Божия уже стерла рукописание грехов, а мы всё еще продолжаем помнить и судить. Но это уже суд не над человеком, а над Богом, помиловавшим и простившим».
…Мимо неслись, грохотали, пульсировали 1930-е годы. Москва росла на глазах, сносила храмы и прокладывала улицы, отменяла карточки, то закрывала, то открывала для общедоступного посещения рестораны, пускала троллейбусы и метро, меняла открытые «газики» на новенькие М-1 и ЗИС-101, приветствовала челюскинцев и чкаловцев, после девятилетнего перерыва в 1936-м снова начала праздновать Новый год, веселилась на ночных карнавалах в ЦПКиО имени Горького, с волнением следила по картам за линией фронта в далекой Испании, проклинала врагов народа… И крохотной клеточкой этой огромной разнообразной жизни была жизнь бухгалтера Ивана Михайловича Крестьянкина, который уже с полным правом мог называть себя москвичом.
Как мог чистый душой, верующий, бесхитростный юноша выжить в городе, где в прямом и переносном смысле правили бал Воланд и его соратники? Не опошлиться, не соблазниться, сохранить себя и свои ценности от наседающей со всех сторон реальности?.. С одной стороны, Ивану было неимоверно труднее, чем современным православным людям, не испытывающим гонений за свою веру и внушающим современникам уважение. Вот какие реалии тогдашней Москвы запечатлел мемуарист А. Б. Свенцицкий: «В школе учили вирши Демьяна Бедного: “У Николы сшибли крест, стало так светло окрест! Здравствуй, Москва – новая, Москвая – новая, бескрестовая!” Яркими красками на корпусах “антирелигиозных” трамваев, оборудованных художниками РОСТа и авторами ЛЕФа, были нарисованы неприличные карикатуры на Иисуса Христа, Богоматерь». Видеть всё это, сталкиваться ежедневно было, понятно, невыносимо тяжко. А если задуматься, с другой стороны, в чем-то было и проще. Ведь Москва 1930-х еще хранила огромное количество примет старого, не добитого ни революцией, ни последующими ломками. Людям, которым в 1917 году было по 20 лет и которые успели хлебнуть воздуха прежней эпохи, в 1937-м исполнилось всего 40, что уж говорить о более старших поколениях. Соответственно, жили (пусть и не на переднем плане) и многие «старые» понятия, взгляды, убеждения, не говоря уж о тех иррациональных вещах, которые обычно не учитываются статистикой, но составляют тем не менее важный фон «духа времени». Не смущали слух и зрение повсеместные Интернет, телевидение, реклама, не было разливанного моря дергающей в разные стороны прессы и литературы. Гонения на веру лишь укрепляли ее. Легче было сосредоточиться на душе, отгородившись от чуждого мира. Да, кроме того, мир ведь никогда и не был Ивану Крестьянкину чуждым. Он всегда – и в юности, и в старости – был встроен в жизнь, более того, проницал ее настолько глубоко, что за советом и наставлением к нему спешили и люди, казалось бы, знающие вокруг все ходы-выходы. Но, как всякий верующий человек, он мерил окружающее Божией меркой и видел в реальности, если воспользоваться выражением Юрия Трифонова, другую жизнь. Поистине вокруг него были две Москвы – Москва земная и Москва небесная. Для чистого всё было чисто…
«Я очень хорошо помню довоенное время, – вспоминал митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим (Нечаев). – Москва в те годы сохраняла еще многие старые традиции и обычаи. Уклад, который формировался веками на основе строгого соблюдения церковного устава, перешел в быт и трансформировался в радушие, приветливость, столь характерные для старых москвичей. И эта атмосфера приветливости еще сохранялась, несмотря на очень сложные, трудные времена. <…> Тогда в наших коммунальных квартирах, в условиях чрезвычайно трудных социальных, политических перемен, ломок, оставались непререкаемыми основные ценности: достоинство личности, которая в скудности создает свой духовный мир, и законы общежития, которые позволяли людям с разными характерами, разными способностями, но одухотворенным одной идеей совместного родового, племенного, семейного, просто человеческого совыживания сохранить Русь – так же, как и в погромном тринадцатом веке, и в Смутное время, и в переломный, страшный век двадцатый».
А другой мемуарист, филолог А. Ч. Козаржевский, оставил такую зарисовку церковного быта Москвы 1930-х годов: «Довоенные прихожане в большинстве своем успели получить минимум духовных знаний еще до семнадцатого года. Хорошо знали церковную службу, держались своего прихода, хорошо знали друг друга, у каждого было привычное место молитвы. <…> Получил большое распространение институт сестричества. Совсем юные девушки, взрослые и пожилые женщины в скромных темных платьях и белых косынках следили за порядком богослужения, ставили свечи, оправляли лампады, подводили детей и немощных к Чаше, кресту, иконам, ходили с блюдом для сбора доброхотных даяний. <…> Время богослужения было рассчитано на работающих людей, а не только на пенсионеров. Будничная литургия совершалась в половине седьмого утра, вечернее богослужение – в половине седьмого вечера».
В Орле Ивану доводилось бывать в эти годы нечасто, и поводы эти были грустными: мать продолжала болеть, сказывался возраст – к середине 1930-х Елизавете Илларионовне было уже за шестьдесят, по меркам той эпохи – бесспорная старость. Мать и сын регулярно переписывались, сохранились фотографии Ивана с трогательными надписями, адресованными маме. Уже в 1950-х батюшка рассказал своим рязанским прихожанам об одном случае из своей московской юности. Как-то он подхватил воспаление легких, врачи предписали усиленное питание, а был как раз пост. Иван написал об этом матери и получил ответ: «Сынок мой родной, умирай, а Закон Божий чти». «Стал он молиться о своем спасении Божией Матери и Спасителю своей горячей молитвой, кушал картошечку и масличка подсолнечного, когда можно было, вот и спасся», – вспоминала жительница рязанского села Троица Мария Андреевна Коровина-Попова, слышавшая этот рассказ от самого батюшки.
Самым печальным оказался приезд в родной город в августе 1936-го. Мама болела тяжело, а отпуск заканчивался, нужно возвращаться в Москву. Что делать?.. Молитва облегчения не приносила, и Иван в смятении отправился к матушке Вере Логиновой, той самой, которая благословила его на переезд в столицу. Но старица на этот раз ограничилась загадочной фразой:
– Иди к доктору Ананьеву, он всё тебе скажет.
Ананьев?.. Конечно, этот аптекарь, знаменитый на весь Орёл своими клетчатыми штанами и пристрастием к велосипеду, был знаком Ивану, но чем он может помочь?.. Всё же, памятуя о прозорливости матушки Веры, молодой человек зашел в аптеку. И точно, Ананьев, куда-то торопившийся, на ходу выписал какую-то микстуру и отделался отговоркой:
– Завтра… – он взглянул на часы, – …ну допустим, без двадцати час придешь ко мне и всё скажешь.
Назавтра, 20 августа 1936-го, ровно в 12.40. сердце Елизаветы Илларионовны остановилось. Скончалась она, как указано в свидетельстве о смерти, от воспаления кишечника. 23-го состоялись похороны на Крестительском кладбище, на котором собрались все братья Крестьянкины и сестра Татьяна. Могила Елизаветы Илларионовны находится недалеко от кладбищенского храма; сейчас она зажата со всех сторон позднейшими захоронениями, и попасть к ней можно, только изрядно попетляв в «лабиринте» из металлических оградок.
И снова понеслись московские будни. Снова были желанные встречи на колокольне у о. Александра, общение на близкие темы, чтение и обмен литературой. В то время достать какую-либо духовную книгу дореволюционного издания было почти невозможно – в букинистических магазинах они не продавались, их можно было купить только «из-под полы», с рук, у человека, распродававшего свою (или чужую) библиотеку. Именно в 1930-х у Ивана Крестьянкина появились первые богословские труды, изданные в начале века. В свободное время он внимательно штудировал их, стремясь пополнить образование. Это был целый мир, даривший успокоение и разительно непохожий на официальщину, которая насаждалась повсеместно.
Тетрадь за тетрадью заполнялась выписками из этих книг. «Желаешь ли ты, человек малый, обрести жизнь? Сохрани веру и смирение, потому что ими обретаешь милость и помощь. Желаешь ли обрести сие, то есть причастие жизни? Ходи пред Богом в простоте, а не в знании. Простоте сопутствует вера, а за утонченностью и изворотливостью помыслов следует самомнение, за самомнением же – удаление от Бога». Это «О вере и о смиренномудрии» преподобного Исаака Сирина. Этого древнего аскета, которого впервые перевел на русский язык преподобный Паисий (Величковский), всегда особо почитала Русская Церковь; святитель Феофан Затворник даже составил отдельную молитву этому святому. Глубоко ценил труды преподобного Исаака Сирина и о. Иоанн Крестьянкин…
Особую радость приносили и поездки-паломничества, в которые иногда отправлялись верующие молодые москвичи. Например, в деревню с необычным названием Старый Ужин на берегу озера Ильмень. Там в простой деревянной избе жил монах Досифей (Принцев) – почти ровесник Ивана, 1906 года рождения. С восьми лет у отца Досифея были парализованы обе ноги и рука. Но никто никогда не слышал от него ни стона, ни жалобы. Знавшие его говорили, что лицо парализованного монаха было озарено таким внутренним светом, такой любовью к Господу, что естественное чувство жалости к калеке у пришедшего быстро переходило в благоговение, восторг, умиление. Мгновенно понимая, с какой именно бедой к нему пришли, о. Досифей с улыбкой говорил: «Жаладный (желанный), не греши больше». А если было нужно, возвышал голос, твердо говорил грешнику о необходимости покаяния.
Другую болящую, которую навещали Иван Крестьянкин с друзьями, звали Зинаидой. Без ногтей и зубов, вся покрытая язвами, она была неподвижна уже на протяжении тридцати лет. Можно предположить, что бывали друзья и у Матроны Дмитриевны Никоновой, легендарной слепой чудотворицы Матроны Московской, прославленной в лике святых в 2004 году; своего угла у нее в столице не было, и она скиталась по Москве от Пятницкой до Сокольников, от Вишняковского переулка до Петровско-Разумовского – кто приютит, у того и жила.
Сейчас даже представить сложно, как именно протекала духовная жизнь молодых православных москвичей в конце 1930-х годов, когда религия была не просто отодвинута на периферию жизни, осмеяна и проклята, но и просто опасна, смертельно опасна для жизни. Пиком репрессий считается 1937 год, но верующих арестовывали и раньше, и позже – кампания против Церкви в той или иной форме не прекращалась никогда, так как сама суть православия входила в противоречие с планами советской власти. Открыто верующий человек в то время не мог состояться как политический, общественный деятель, сделать карьеру в армии или на государственной службе – ему были уготованы если не тюремные нары, то дно жизни без всяких надежд на внешний успех. Официальная позиция власти по отношению к православию была изложена в 46-м томе Большой советской энциклопедии, вышедшем в 1940 году: «Великая Октябрьская социалистическая революция нанесла православной церкви последний удар. Но церковь пробовала бороться. Церковники открыто поддерживали контрреволюцию, орудуя в качестве агентов белых “правительств” и иностранных интервентов. <…> Когда под руководством Ленина и Сталина была разгромлена белая контрреволюция, православная церковь вступила в полосу окончательного разложения. <…> Превратившись в мелкие, замкнутые организации, не имеющие опоры в массах, обломки православной церкви, как и других религиозных организаций, вступили на путь шпионажа, измены и предательства. Такова последняя позорная страница истории православной церкви».
Собственно, уже на основании этой статьи любой православный в СССР мог быть априори арестован как потенциальный шпион, изменник и предатель. Но даже если воспринимать эту позицию как «перегиб» отдельно взятого автора (белорусского историка академика Н. М. Никольского), всё равно Церковь и вера считались в те годы чем-то настолько отсталым, устаревшим, враждебным и вредным, что нужно было быть поистине героическим человеком, чтобы твердо, без колебаний жить по своим убеждениям и Божиим заветам в мире, где гремел из репродукторов «Марш энтузиастов», а в стенах чудом уцелевших храмов размещались архивы или зернохранилища.
О грандиозности замыслов руководства СССР в отношении религии говорит размах так называемой «безбожной пятилетки», объявленной главой Союза воинствующих безбожников Емельяном Ярославским в 1932-м. Согласно этому плану, к 1933 году в СССР должны были закрыться все храмы всех конфессий, к 1934-му – исчезнуть религиозные представления, привитые литературой и семьей, к 1935-му – молодежь должна быть охвачена всеобщей антирелигиозной пропагандой, в 1936-м – ликвидированы последние священнослужители, а к 1 мая 1937-го от религии в любых ее формах должно было остаться одно воспоминание. Для выполнения этой «пятилетки» были приложены колоссальные усилия. Так, только в 1932 году в Советском Союзе было снесено 95 процентов православных храмов, уцелевших в предыдущих кампаниях сноса. В Москве к 1936 году осталось 53 действующих храма (вшестеро меньше, чем в 1917-м). Во многих городах были закрыты или взорваны вообще все храмы. Так, в родном для Ивана Крестьянкина Орле последнюю церковь, кладбищенскую Афанасьевскую, закрыли 25 июня 1941 года, а во всей Орловской области остались два действующих храма – в Болхове и селе Лепёшкино. Особо «помогла» гонителям православия Главнаука, выдвинувшая критерии оценки архитектурной ценности храмов: те, что построены до 1613 года, объявлялись неприкосновенными памятниками, в 1613–1725 годах – могли перестраиваться «в случае особой необходимости», в 1725—1825-м – сохранялись только фасады, постройки же после 1825 года архитектурными ценностями не считались. Именно «благодаря» этим нормам, утвержденным в 1928-м, в СССР сохранилось так мало храмов, построенных в XIX–XX веках…
Но даже этот чудовищный вал, катившийся по стране, не смог поколебать тысячелетние устои нации. Церковь жила – жила даже во время, которое сейчас у большинства ассоциируется с репрессиями, а раньше – с Днепрогэсом, Магниткой и стахановцами. Во время общесоюзной переписи населения, проведенной 6 января 1937 года, из 98 миллионов 600 тысяч совершеннолетних жителей страны православными верующими назвали себя 41 миллион 200 тысяч человек. Для сравнения – членов ВКП(б) тогда насчитывалось 1 миллион 453 тысячи. Это могло говорить только об одном – «безбожная пятилетка» потерпела крах. Не сотни, не тысячи, а десятки миллионов людей открыто заявили о своих религиозных убеждениях переписчикам – несмотря на риск того, что эти данные могут в дальнейшем послужить поводом для преследований или ареста. Проводившие опрос счетчики зафиксировали такие ответы: «Сколько нас ни спрашивай о религии, нас не убедишь, пиши: верующий», «Хоть и говорят, что верующих будут увольнять со стройки, но пиши нас верующими». По всей видимости, реальный процент православных в СССР был еще выше, потому что около миллиона опрошенных на вопрос, веруют ли они, ответили, что «ответственны только перед Богом», а другие заявили, что «только Богу известно, верующие они или нет». Интересен и тот факт, что, согласно той же переписи, большинство верующих тех лет – вовсе не необразованные старухи, как утверждала антирелигиозная пропаганда, а грамотные мужчины в возрасте от 30 до 39 лет и грамотные женщины в возрасте от 20 до 29.
В числе миллионов советских людей, открыто признавших свои убеждения, был и московский бухгалтер Иван Крестьянкин. К счастью, Бог хранил его: черные 1937 и 1938 годы прошли мимо, испытания, назначенные ему, были еще впереди. А вот среди тех, кто погиб в это время, был один из главных духовных наставников о. Иоанна, архиепископ Серафим.
…В 1939 году произошло событие, которое во многом изменило жизнь Ивана Крестьянкина. Вернувшись однажды со службы в храме, он обнаружил, что дверь в комнату заперта изнутри. Взобравшись на подоконник (квартира № 1 размещалась на первом этаже), Иван увидел через стекло распростертую на полу хозяйку. Приехала «скорая помощь», дверь взломали. Уходя, врач коротко сказал молодому человеку:
– Молитесь, мой дорогой, чтобы она не завалялась – у нее паралич.
«Заваляться» Анастасии Васильевне не было суждено – через три дня она умерла. Поскольку родни у старушки не было, на кладбище ее провожал Иван. А когда вернулся, с изумлением увидел, что у двери его комнаты сложены в кучу многочисленные узелки. Это бабушки со всех окрестных домов принесли ему свои похоронные котомки с записками – в случае чего проводить их в последний путь так же достойно, по-христиански, как и Анастасию Васильевну…
Дальнейшая судьба жилища Ивана повисла на волоске. Но домуправление неожиданно разрешило проблему само: Крестьянкина, снимавшего угол уже семь лет и зарекомендовавшего себя образцовым жильцом, прописали на освободившейся жилплощади. Отныне у него была собственная комната в коммуналке в центре Москвы – по меркам тех лет неслыханное богатство. Один в одной комнате!.. Тысячи москвичей даже мечтать о таком не могли. Как вспоминал потом о. Иоанн, «когда получил возможность жить один в отдельной комнате, убрал всё чистенько, хорошо, сел посередине: “Господи! Неужели я один? – Один, один, один!” И такое было счастье!»
А воздух эпохи между тем сгущался. После кровавого вала 1937-го, когда общество захлестывали шпиономания и доведенная до болезненности подозрительность, «гайки» начали закручивать всё туже. В декабре 1938-го были введены трудовые книжки, урезали пособия по болезни, был сокращен декретный отпуск. 26 июня 1940-го ввели 7-дневную рабочую неделю и 8-часовой рабочий день, запретили самовольный уход с предприятий и учреждений, а также самовольный переход с одного предприятия или учреждения на другое. Рабочие и служащие, самовольно ушедшие с работы, получали тюремные сроки от двух до четырех месяцев. За прогул без уважительной причины (а к нему приравнивалось, например, опоздание на работу на двадцать минут, а также опоздание после обеда, посещение в рабочее время заводской поликлиники или больницы) рабочие и служащие карались не увольнением, как это было раньше, а исполнительно-трудовыми работами по месту службы на срок до полугода с удержанием до четверти заработной платы. За вторую половину 1940 года за самовольный уход с предприятий и учреждений, прогулы и опоздания было осуждено более двух миллионов человек.
Тревожно было и в мире. Слова «Хасан» и «Халхин-Гол» сменились на первых полосах газет названиями финских городов. В сентябре 1939-го началась война в Европе, после разгрома Польши в состав Советского Союза вошли Западные Украина и Белоруссия, в 1940-м – Литва, Латвия, Эстония, Молдавия, была создана Карело-Финская ССР. С нацистской Германией формально установились почти дружеские отношения, но в том, что рано или поздно с немцами начнется война, никто не сомневался. Официально время считалось мирным, а вот о том, каким оно было на самом деле, красноречиво говорит число награжденных медалями «За трудовую доблесть» и «За отвагу»: если главной трудовой медалью СССР в 1938–1941 годах было награждено около 8 тысяч человек, то главной боевой – 26 тысяч.
И всё же сообщение, прозвучавшее по радио в полдень 22 июня 1941-го, ударило как обухом по голове. Выступал нарком иностранных дел Молотов, а не Сталин, как все ожидали. И хотя финальные слова речи – «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами» – звучали уверенно, люди, которые слушали речь наркома, отчетливо понимали: начинается новая полоса испытаний, гораздо более страшных, чем все предшествующие.
Глава 4
Война и начало служения
Патриарший местоблюститель блаженнейший митрополит Московский и Коломенский Сергий узнал о нападении на Советский Союз так же, как миллионы его сограждан, – по радио. А выслушав выступление Молотова, сел за стол в кабинете своего дома в Бауманском переулке, взял в руки перо и бумагу. И словно сами собой начали складываться слова обращения ко всем православным людям:
«Фашиствующие разбойники напали на нашу родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени пред неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостью родины, кровными заветами любви к своему отечеству. Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божиею помощью, и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении потому, что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге перед родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы – православные, родные им и по плоти и по вере… Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей родины. Господь нам дарует победу».
Эти простые, мужественные и одновременно возвышенные слова впервые прозвучали 23 июня 1941 года. Они внушали веру в победу, в свои силы. 26 июня владыка Сергий служил в Богоявленском соборе молебен о даровании победы, и с тех пор такие молебны служились во всех храмах Московской патриархии.
Дворы военкоматов заполнились призывниками. 31-летний Иван Крестьянкин, конечно, подлежал бы призыву в армию, если бы не сильная близорукость. Не отправился он и в эвакуацию.
Война вторгалась в жизнь столицы медленно и как-то странно. 24 июня было введено военное положение, тогда же вышел за подписью комбрига Фролова «Приказ по местной противовоздушной обороне», в котором предписывалось «полностью затемнить жилые здания, учреждения, заводы, выключить все световые рекламы, внутридворовое освещение, привести в готовность бомбоубежища и газоубежища». На следующий день вышло постановление Совнаркома о сдаче населением радиоприемников. 30-го был создан Государственный Комитет Обороны. Ввели специальные пропуска на въезд в Москву для всех, даже для самих москвичей. Были отменены отпуска, запрещалось фотографировать виды Москвы, ходить по городу с полуночи до четырех утра и писать письма больше, чем на четыре страницы. 2 июля было приказано в двухдневный срок наклеить на окна домов крестообразные полоски из материи, целлофана или марли.
Но одновременно, параллельно продолжалась и какая-то странная мирная жизнь, то казавшаяся вызывающе неуместной, то внушавшая надежды на скорый конец войны. Например, за 11 дней так и не выступил по радио Сталин. На Петровке, в летнем театре «Эрмитаж», продолжал петь Козин, в ЦПКиО имени Горького работал цирк шапито, на улицах продавали мороженое и газировку. А по сводкам Совинформбюро, которые передавали днем и вечером, можно было судить о том, что Красная армия не оставила противнику ни одного города, а в Румынии так и вовсе наступает.
«Всерьез» для Москвы война началась после выступления по радио Сталина 3 июля. 17 июля были введены карточки на продукты. А начиная с 22 июля немцы начали бомбить столицу. Правда, «Вечерка» написала о первом налете только через пять дней. Потом были бомбежки 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12 августа… Появились первые разрушения, на которые сначала ходили смотреть, как на диковинку. Так, 3 августа тонная бомба снесла с постамента памятник Тимирязеву у Никитских ворот (шрамы от осколков на его постаменте видны и сегодня). А потом горящие дома и выбоины в асфальте перестали удивлять. От бомб сгорели Центральный, Ваганьковский, Тишинский и Зацепский рынки, попали под удары Большой и Вахтанговский театры, Третьяковская галерея, заводы и фабрики – и гиганты наподобие ЗИСа и «Красного Пролетария», и мелкие, вроде «Метширпотреба» или завода патефонных иголок. И, конечно, жилые кварталы.
К налетам Москва готовилась заранее, поэтому уже в конце июля все более или менее значительные объекты в городе были замаскированы. Зеленые крыши делали коричневыми, золотые купола соборов скрыли под брезентом, на проезжей части улиц рисовали крыши, на стенах Кремля – окна и двери. Самое приметное для летчиков место, излучину Москвы-реки, прикрыли баржами, на которых были построены макеты домов.
В жизнь москвичей быстро вошли правила поведения во время бомбежки. Сначала все вели себя инстинктивно и потому неправильно: жались к стенам домов и прятались в подъездах и воротах, то есть там, где быстрее всего и заваливает обломками здания. Но очень быстро все выучили элементарное: если тревога застала в трамвае или троллейбусе, нужно бежать в метро, бомбоубежище или траншею в ближайшем дворе; если дома – нужно сперва выключить газ, затушить печь или примус, закрыть в посуде или завернуть в клеенку продукты (а вдруг сбросят химическую бомбу?) и только после этого бежать в убежище. Быстро научились и различать звуки артобстрела от бомбежки: звук падающей бомбы менялся от низких тонов к высоким, а звук уходящего вверх зенитного снаряда – от высоких к низким.
9 октября Иван Крестьянкин услышал в сводке Совинформбюро о том, что Красная армия оставила его родной Орёл. 12 октября был оставлен Брянск, 13-го – Вязьма. «Гитлеровские орды угрожают жизненным центрам страны», – написала в тот день «Правда». А 15-го москвичи прочли в газетах еще более страшные слова: «Кровавые орды фашистов рвутся к жизненным центрам нашей Родины, рвутся к Москве». Это было уже по-настоящему жутко. До этого война для многих сводилась к авианалетам, карточкам, затемнению… Теперь же было понятно, что фашисты идут на Москву и на пути у них не стоят ни мощные крепости, ни высокие горы.
16 октября в городе и вовсе началось что-то странное. На Арбатской площади, у здания Наркомата обороны, сгрудились десятки грузовиков, в которые красноармейцы усаживали женщин и детей. Остановились заводы и фабрики – рабочим выдали зарплату за месяц вперед и по пуду муки сверх нормы и распустили по домам. Застыли на рельсах трамваи, перестало действовать метро, закрылись булочные, поликлиники и аптеки, в продовольственных перед закрытием начали раздавать прохожим продукты… Посреди утреннего радиосообщения Совинформбюро ни с того ни с сего заиграл фрагмент немецкого марша «Хорст Вессель». Никаких объяснений никто не давал. Люди жили слухами: правительство эвакуируется в Куйбышев, заводы, вокзалы, мосты, электростанции и метро будут взрывать (причем взрывчатку заложили еще 10-го), из мавзолея вывезли тело Ленина, немцы уже находятся в пригородах и рассматривают Кремль в бинокли… И самое главное – собирается уезжать в тыл Сталин. И тогда в городе началась паника.
Правда, продолжалась она недолго – уже к началу 20-х чисел октября порядок был восстановлен. Прошедший 7 ноября на Красной площади парад внушал москвичам уверенность в том, что город не будет сдан врагу. А в декабре в битве за Москву наступил перелом. И хотя бомбежки города продолжались (последние бомбы упали на Москву в июне 1943-го), опасность, нависавшая над столицей, отпала.
Вместе со всеми горожанами Иван Михайлович Крестьянкин прошел через тяготы и невзгоды военных лет. Пережидал бомбежки в метро и томился в очередях, чтобы отоварить карточки, прыгал на подножки переполненных трамваев и участвовал в субботниках по уборке мусора, укрывался в подъездах от барабанивших по крышам осколков зенитных снарядов, вслушивался в сводки Совинформбюро и радовался победным салютам, первый из которых был дан в честь освобождения его родного Орла… А самым запоминающимся случаем стала встреча с его двоюродным племянником – двадцатилетним Вадимом Овчинниковым.
С Вадимом случилась беда – он отстал от своего заводского эшелона, эвакуировавшегося на восток. В соответствии с законами 1940-го это расценивалось как дезертирство и в военное время каралось расстрелом. Единственным человеком, к которому Вадим мог обратиться в Москве, был Иван. Что делать, он и сам толком не знал, но для начала накормил родича и укрыл его… в сундуке, который когда-то служил ему постелью. Чтобы Вадим не задохнулся, в сундуке просверлили дырки. А сам Иван три дня и три ночи на коленях выстаивал перед иконой святителя Николая Чудотворца, прося у него вразумления. В конце концов решение пришло – идти в комендатуру Москвы с заявлением об обстоятельствах, в которые попал племянник. В заявлении решили написать, что он контужен. Это было отчасти правдой – в соседнем квартале как раз разорвалась бомба, а Вадим от переживаний выглядел совершенно больным.
Вскоре из комендатуры в Большой Козихинский приехал некий генерал. Ему предложили чаю без сахара, Иван откровенно рассказал о беде родственника. Генерал посмотрел на многочисленные иконы, на лампадку перед образом святителя Николая, на скудные съестные припасы (полкило хлеба и три картофелины) и, сказав, что через несколько дней будет решение, уехал.
Через четыре дня с посыльным действительно пришла повестка. В комендатуру родственники отправились вместе. Вердикт, который они выслушали, потряс обоих: Вадима направляли в госпиталь для лечения, а Ивану выдали воинский паек. Не напрасны были молитвы святителю Николаю… О нем о. Иоанн говорил впоследствии так: «Мы своим религиозным опытом знаем о нем не только по свидетельству Церкви, не только по преданию, но по живому его участию в жизни нашей. И в сонме чтимых святых не много таких, кто предстал бы нашему сознанию столь живо. Собственными свойствами святой души святителя Николая стало умение любить, умение снисходить ко всякому человеку, к разным людям и дать каждому именно то, что ему нужно». По свидетельству о. Иоанна, в его жизни не было ни одного обращения к святителю Николаю, которое не было бы услышано.
Вадим Васильевич Овчинников пережил войну, стал архитектором, в Орле и сейчас стоят возведенные им здания (например, Технологический институт имени Поликарпова на Московской улице). Скончался он в Орле в 1993 году и похоронен рядом с матерью, сестрой и старшим братом о. Иоанна.
…В обстановке военной угрозы заметно ослабли гонения на Церковь. Уже в первые месяцы войны в СССР начали стихийно открываться закрытые прежде храмы. В городах и селах собирались сходки верующих, на которых избирали исполнительные органы и уполномоченных по ходатайствам об открытии храмов. В сельской местности такие сходки часто возглавляли председатели колхозов, исполкомы ходатайства удовлетворяли. Всё это побудило советское руководство официально разрешить открывать храмы на территории, не оккупированной немцами. Начались освобождения арестованных ранее священников, которые назначались настоятелями вновь открытых храмов.







