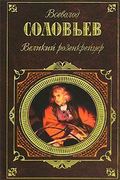Всеволод Соловьев
Капитан гренадерской роты
Долго так беседовали они, и никто не нарушал их разговора. Лесток зашел было на минуту в комнату, да и опять вышел. Но вот и говорить не о чем, все переговорено и передано.
– Спой мне что-нибудь, Алеша! – обратилась Елизавета к Разумовскому. – Да только тише, теперь громко петь не годится.
Разумовский не стал долго задумываться. Он закинул голову, и в тихой комнате раздались нежные звуки чистого прекрасного тенора.
Он запел старую казацкую песню и с первых же слов забыл все окружающее, ушел всею душою в звуки.
Цесаревна оперлась головою на руки, не отрываясь смотрела на певца и жадно слушала. Песня кончена, а слушать все хочется.
– Спой еще что-нибудь, да только русское!
Разумовский на мгновение задумался, и вдруг на лице его мелькнула хитрая улыбка. – Придумал! – сказал он. И запел:
Я не в своей мочи огнь утушить,
Сердцем болею, да чем пособить?
Что всегда разлучно, и без тебя скучно,
Легче б тя не знати, нежель так страдати
Всегда по тебе.
Цесаревна все так же жадно слушала, но с каждым новым звуком лицо ее принимало все более и более грустное выражение. Вот и слезы затемнили светлые глаза ее и скатилась по полным румяным щекам. Слишком знакома была ей эта песня: она сама сочинила ее в прошедшие юные годы, в минуты глубокой, теперь уж позабытой, тоски и горячего молодого чувства. «Зачем все это снова напомнил неразумный Алеша?»
– Замолчи, замолчи! – наконец не выдержала цесаревна и поднялась со своего места. Она подошла к Разумовскому, спутала своей нежной белой рукой его кудри.
– Ах ты, голова бестолковая, – печально и ласково сказала она, – какую песню петь выдумал!..
– А что ж, разве дурна моя песня? – наивно и изумленно спросил Разумовский. – Никогда не певал я еще при тебе, государыня, эту твою песенку, думал, поблагодарствуешь, что ее выучил.
– Эх ты, Алеша, Алеша! – повторила цесаревна. – Прежде бы спросил, допытался, когда та песенка мною сложена да про кого сложена, а потом бы уж пел мне. Оставь меня, уйди теперь, вели собирать ужин.
Он взглянул на нее и, с почтением и любовью прижавшись губами к протянутой ему руке, вышел исполнить ее приказание.
А у нее снова показались на глазах слезы.
– Глупый Алеша! Зачем он все это напомнил?! – почти громко шепнула она.
Ей вспомнилось прошлое, связанное с этой песней. В теплой тишине ее комнаты встал перед нею позабытый, когда-то горячо любимый образ молодого красавца Шубина.
Этот Шубин был гвардейский прапорщик. Его красота, ловкость и решительность обращали на него всеобщее внимание.
Молодая принцесса тоже любовалась им, как и все другие, и сама не заметила, как зародилось в ней к нему глубокое, страстное чувство. Она приблизила его к себе; сделала своим ездовым. Она даже мечтала навсегда соединить его судьбу со своею: мечтала выйти за него замуж.
А он со своей стороны употреблял всю энергию для того, чтобы принести ей пользу. Он был любим всеми товарищами-гвардейцами. Он сблизил ее с гвардией, сделал ее популярной в войске. Если теперь случится то, о чем они все думают, если и взойдет она благополучно на престол отцовский, то началом всего этого она обязана Шубину. Он для нее работал первый и первый же за нее поплатился страшно. Движение в гвардии было замечено. Шубина схватили; светлые мечты разлетелись прахом. Никогда уж более не видала цесаревна своего друга. Его засадили в каменный мешок, в нору каменную, где нельзя было ни лечь, ни сесть.
Всячески осведомлялась она о судьбе его, наконец узнала, что услали его в Камчатку. И еще пуще насмеялись над ним и над нею; насильно женили его на камчадалке, и сделали все это тайно. Сослали его под чужим именем, и запрещено с тех пор упоминать его имя.
Страшные, тяжкие дни переживала тогда бедная цесаревна.
Ее чувство к Шубину было не простым мимолетным чувством: она любила его искренне и долго, долго плакала по нем и долго не могла примириться со своею судьбой. Одно только время, мало-помалу, залечило ее раны. Сердце просило жизни, искало любви и ласки. Прекрасный образ несчастного Шубина побледнел и расплылся в тумане воспоминаний; в сердце Елизаветы появился новый, не менее прекрасный, живой, веселый и беззаботный образ молодого казака и певца Алеши Разума.
«Глупый Алеша! Зачем он это все напомнил?!» – повторяла цесаревна и долго не могла остановить своей тоски, все мерещились ей прежние картины.
Так печальной, задумчивой и вышла она к ужину и наказала Алексея Разумовского за его недогадливость тем, что почти и не замечала его присутствия в этот вечер.
V
На следующее утро цесаревна едва успела одеться, как ей доложили, что приехал герцог. Она удивилась несказанно и даже не могла победить в себе невольного волнения.
Все эти последние дни она не видела Бирона. Она знала, какое тревожное это для него время, знала, что он всюду теперь раскрывает заговоры, пытает людей. Она слышала, что вчера ездил он в Зимний дворец и там кричал на принца и принцессу.
Мавра Шепелева узнала все это из верного источника и сейчас же, конечно, подробно рассказала царевне.
Зачем же он приехал? Какое это будет свидание и чем оно кончится? Наверно, и тут же все дело заключается в открытии какого-нибудь заговора: опять кто-нибудь из офицеров попался… Что, если он вздумает и на нее кричать? Она не потерпит этого! Чем же тогда кончится? Конечно, ей с ним еще можно побороться, конечно, она тогда будет вынуждена поторопиться с исполнением своего плана… Но идти наобум, когда еще ничего не созрело, очень может быть – потерпеть неудачу и погибнуть!.. Лучше уж заранее приготовиться ко всему, заранее заставить себя быть хладнокровной, ничем не возмущаться, вынести его дерзости, его крик… Да, это нужно, это необходимо ради дела, ради всей будущности…
Но вытерпит ли она, вынесет ли? Нет, ни за что! При одной мысли о том, что Бирон будет кричать на нее и она станет это равнодушно, молчаливо слушать и склоняться перед ним, краска стыда и негодования бросилась в лицо Елизаветы.
– Нет, я не потерплю этого. Я не позволю, чтоб этот холоп кричал на меня! – сверкнув глазами, сказала она Мавре Шепелевой.
Ее сердце быстро стучало.
На добром и по обыкновению спокойном лице ее выражалось горделивое чувство и негодование. Вся обида, все смущение, вызванные этим неприятным ожидаемым свиданием, как не бывали. Она вышла в свою приемную к Бирону, высоко держа голову. Холодная и величественная. Она точно была в эти минуты орлиною дочерью.
Бирон, бесцеремонно сидевший в кресле, ожидая ее появления, быстро встал к ней навстречу и протянул ей руку.
Было мгновение, когда ей захотелось не дать ему своей руки. Она взглянула на него, и, если б увидела в нем какие-нибудь признаки раздражения, если б увидела что-нибудь дерзкое или даже непочтительное в его обращении к ней, она бы и не дала ему руки.
Но он стоял перед нею в довольно почтительной позе, любезно и ласково улыбался. Он протянул ей руку первый, без всякой мысли о том, что это не совсем прилично, по простой, издавна приобретенной привычке думать, что его рукопожатие должно приносить честь даже принцессе.
И она не начала первая ссоры. Она любезно ему улыбнулась, поместилась на маленький диванчик и грациозно указала ему кресло возле себя.
– Извините, ваше высочество, – начал Бирон, – я слишком рано к вам сегодня. Но ведь день столько же часов имеет теперь, как и всегда, а дел у меня с каждым днем прибывает. Через час я должен быть в чрезвычайном собрании кабинет-министров. Затем до позднего вечера каждая минута у меня разобрана… только поэтому и решился к вам заехать так рано.
Она с изумлением его слушала и глядела на него. Совсем не такого приступа к разговору ожидала она.
– Какое дело привело вас ко мне, герцог? – спросила, наконец, цесаревна, слабо и неопределенно улыбнувшись.
– Не дело, – ответил Бирон, – и если в этом вопросе вашем – упрек мне, что не посвятил вас до сих пор, то сознаю себя заслуживающим этот упрек и прошу у вас прощения. Я не по делу, а именно потому, что давно уж собирался…
Елизавета удивлялась все больше и больше.
– Но если вы непременно хотите дела, – продолжал Бирон, – то, пожалуй, вот и дело есть. Знаете, ваше высочество, что ведь я по-настоящему должен считать вас своим врагом. Скажите мне: вы недовольны тем, что я выбран регентом? Вы недовольны завещанием императрицы? Вы находите, что император Иоанн III имеет меньше права на престол российский, чем вы?
Он говорил это тихо, не раздражаясь, и внимательно смотрел на Елизавету.
«А! Вот и начало!» – подумала она. У нее шибко забилось сердце, кровь бросилась в лицо, потом отхлынула.
Она побледнела, но сделала над собой усилие и заговорила спокойным голосом:
– Что за вопросы? Неужели во все эти десять лет вы не могли узнать меня? Неужели вы до сих пор думаете, что я мечтаю о престоле и что он мне нужен? Кажется, я все делала, чтобы разубедить вас. Неужели нельзя жить спокойно? Неужели такая уж приманка для меня престол этот? Ведь вот вы теперь управляете государством и жалуетесь мне, что дни коротки… А я ленива, герцог, и уж не так молода, чтобы отвыкать от своей простой и спокойной жизни…
– Однако вы в самом деле, кажется, за серьезное приняли мои вопросы! – улыбнулся Бирон. – Не беспокойтесь, ваше высочество, я вас знаю и именно хочу доказать, что не обращаю ни малейшего внимания на то, в чем меня иногда хотят уверить. Я не подозреваю вас, смотрите…
Он вынул из кармана пакет с бумагами.
– Поглядите это, – продолжая улыбаться, сказал он и протянул пакет Елизавете.
Она взяла, развернула бумаги и увидела, что это копии с показаний капрала Хлопова, Толстого и других, схваченных по обвинению в желании возвести на престол цесаревну. У нее невольно дрогнули руки, когда она проглядывала эти бумаги.
Она знала, что эти признания даны под страхом смерти, даны во время истязаний в Тайной канцелярии.
– Я не знаю этих людей, я никогда их не видала! – окончив чтение, сказала цесаревна, и слезы слышались в ее голосе.
– Уверен, что вы их не знаете, – медленно произнес Бирон. – Чего же вы так волнуетесь?
– А вы бы хотели, чтоб я не волновалась, узнавая о мучениях людей, которые, не зная меня, мне преданы и из-за меня подвергаются этим мучениям? Послушайте, герцог, если вы уверены во мне, как говорите это, то должны понимать, что эти люди не могут быть никому опасны. Что же видно изо всех признаний, и наверное здесь еще сказано даже больше, чем было на самом деле, что же видно? Одни только слова. Эти люди не опасны, пожалейте их…
Она взглянула на него умоляющими глазами, она говорила волнуясь, тяжело дыша и совершенно забывая, что это волнение может показаться подозрительным Бирону, что, глядя на нее, он может заподозрить ее участие в заговоре.
Он внимательно смотрел на нее и вдруг улыбнулся.
– Я и так пожалел их ради вас.
– Вы не казните их, нет? Что вы с ними сделаете? Скажите ради Бога! – даже поднялась она со своего места.
– Я не казню их, – опять медленно и продолжая улыбаться сказал регент, – я только удалю их отсюда.
– Правда? Вы мне обещаетесь, как пред Богом?
– Обещаюсь.
Елизавета протянула ему руку, которую он почтительно и нежно поцеловал.
Наконец цесаревна несколько поуспокоилась и могла снова рассуждать хладнокровно.
Первая пришедшая ей мысль была: что ж все это значит? С чего такая любезность? Нет ли тут какой ловушки? Она и прежде, давно, особенно в последние годы царствования Анны Ивановны, ничего не видала от Бирона, кроме любезностей. Одно время при дворе даже замечали, что он просто-напросто ухаживает за ней. Толковали о том, что он в нее влюбился.
Отчасти это была правда: цесаревна действительно производила на него сильное впечатление! Он разделял общую участь всех людей, знавших ее.
Появляясь на придворных балах, она всегда была там первою красавицей. Кому она раз ласково улыбнулась, кому сказала приветливое слово, тот уж никогда не мог забыть этой минуты.
А ласковых улыбок и приветливых слов выпало немало на долю Бирона.
Елизавета, поставленная в необходимость хитрить и лукавить, поневоле чувствовала себя обязанной быть как можно более любезной с таким всесильным человеком, как Бирон. Она знала, что захочет он, и настанет конец ее тихой жизни. Она знала, что ему ничего не будет стоить уговорить императрицу, и тогда с ней не поцеремонятся. И вот она только всеми силами старалась избегать встречи с ним, но, когда встречалась, не отказывала ему в своей улыбке и любезном слове.
«Что ж это он в самом деле? – думала она теперь. – Неужели точно за мной ухаживать приехал? Неужели дошел до того, что станет изъясняться в любви своей… он – Бирон!»
Снова краска негодования залила ее щеки. И она в этом негодовании и в своих мыслях даже не слышала, что говорит он. А он говорил, на что-то жаловался…
Наконец она вслушивается, он действительно жалуется, плачется на свое положение, на то, что никто не хочет понять его, что все замышляют теперь, как бы его погубить, что у него враги есть лютые, принц и принцесса брауншвейгские…
– Часу спокойно не дадут вздохнуть, принцесса! – грустным голосом говорит Бирон. – И не на кого положиться, не с кем отвести душу. Оттого вот к вам и приехал, откровенно поговорить захотелось. Может быть, хоть вы-то меня немножко пожалеете…
«Так и есть! – мелькнуло в голове Елизаветы. – Вот сейчас начнется в любви признание!»
– И что же они воображают, что так уж сладко мне мое регентство! – каким-то даже патетическим голосом и ударив себя рукою в грудь говорил Бирон. – Они ошибаются. Что, кроме мучений, всяких забот, опасностей, приносит мне оно? Если я его принял, то никак не для себя, а для государства. Ну что ж, ну я откажусь, кто ж тогда всем управлять будет? Принц Антон, принцесса Анна? Хороши правители!.. Да и сам император, мало того, что новорожденный, мало того, что можно двадцать раз погубить все государство, пока он вырастет, ведь ко всему и надежда на него плохая, может, слышали, какой ребенок? Совсем нездоровый ребенок, того и жди, скончается. Вот вы говорите, что никогда у вас мысли не было о престоле, жизнь свою покойную больше любите, а напрасно это. Я был бы очень счастлив видеть вас на престоле.
«Вот она и ловушка!» – подумала Елизавета.
– Мне кажется, – твердо и решительно сказала она, глядя прямо в глаза Бирону, – мне кажется, если бы вся Россия просила меня, я и тогда бы отказалась.
Ей почудилось, будто в это мгновение улыбка скользнула на губах Бирона, но, во всяком случае, тотчас же от этой улыбки и следа не осталось. Он заговорил опять самым горячим и искренним, по-видимому, тоном:
– Да, я вас принимаю, принцесса, вы совершенно правы, но надо же вам подумать о будущем государства, надо же добиться того, чтоб престол российский перешел к достойному избраннику. Разве только один и есть новорожденный Иоанн Антонович? Что ж они думают, брауншвейгские, что все мы позабыли о голштинском принце Петре, вашем племяннике? Он уж вырос, и, как слышал я и знаю из верного источника, юноша здоровый и достойный.
«Вторая ловушка!» – подумала Елизавета, но ничего не ответила Бирону и слушала, что дальше говорить он будет.
– Что же они думают, – продолжал регент, – у них, что ли, я буду спрашиваться? Вот посоветуемся с вами да и пошлем письмецо принцу Петру. Думаю, что и вы будете рады видеть племянника, ваше высочество?!
Он, улыбаясь, глядел на нее. Она хорошо знала, что этот племянник – сын дорогой, любимой сестры ее, Анны Петровны, был привидением во все время царствования покойной императрицы, что Анна Ивановна и Бирон не иначе называл его, как «голштинским чертушкой». А теперь к этому чертушке Бирон вдруг письмецо задумывает!
Ну, что ж теперь делать? Как отвечать ему? Сказать, что не хочет видеть племянника – это будет неестественно, да и он этому все равно не поверит. Согласиться на это письмецо – выйдет оно уликой против нее… Она молчала.
– Что ж, принцесса, – опять ласково взглянул на нее регент, – не хотите разве приезда племянника?
– Приезда племянника, конечно, хочу, – ответила Елизавета, – и если вы заставите его приехать, он может быть уверен, что я порадуюсь встрече с ним, но сама я писать не стану – я, герцог, ни в какие дела не вмешиваюсь.
– О, как вы недоверчивы! – покачал головою Бирон. – Вы в самом деле думаете, что я недругом к вам явился, напрасно! Искренне и говорю с вами. Право, нам нужно теперь быть ближе друг к другу – и мы будем близко, потому что оба заботимся о благе России…
«Боже мой! Это он-то заботится о благе России», – в негодовании думала она, но молчала.
– Да, нам нужно быть вместе, – повторил он. – Я серьезно помышляю о принце Петре, я знаю, что, утвердив его здесь, спокойно могу отказаться от этого тяжелого бремени регентства. Но тут вопрос еще и другой, следует и о вас подумать.
– Что ж обо мне-то думать? – пожала плечами Елизавета. – Только оставьте меня жить так, как я живу: я ничего не прошу, ничего не добиваюсь…
– Вы хотите сказать, что совершенно довольны своей жизнью, но позвольте мне не совсем поверить вам, принцесса. Я не могу представить себе вас всегда одинокою. Вы еще так молоды…
– Я не молода, – перебила она тихо.
– Вы так прекрасны. Я знаю, как упорно всегда вы отказывали женихам, но я осмелюсь все же явиться к вам сватом.
Елизавета широко открыла на него глаза.
«Это еще что такое? Кого ж он мне будет сватать, себя, что ли, от живой жены? Или, может быть, дошел до того, что развод задумал со старухой?!»
– Не сватайте мне никого, герцог. Кажется, я уж говорила вам, что решилась никогда не выходить замуж, да теперь, пожалуй что, и поздно, не для чего… проживу и так.
– Решайте, как знаете, а я должен исполнить свою обязанность.
– Кто же этот новый жених мой?
– Видите ли, есть один молодой человек, – шутливым тоном, но все же с некоторым смущеньем заговорил Бирон, – и этот молодой человек давно уж страдает по вас. Он искренне любит вас, принцесса, и был бы бесконечно счастлив, если бы вы благосклонно приняли любовь его, сделали бы честь, отдав ему свою руку.
Бирон встал и низко поклонился Елизавете.
– Не откажите, прошу за своего сына Петра!
Елизавета побледнела. Она хотела говорить, но язык ее не слушался. Она до глубины души была возмущена этим предложением. Сын Бирона, шестнадцатилетний мальчик – ее муж, сын Бирона, тот самый, которого чуть ли не с колыбели отец безуспешно сватал за Анну Леопольдовну!
Так вот чем все разрешилось! Вот объяснение этого визита. Что теперь делать? Сейчас отказать, он никогда не простит этого и все сделает, чтоб погубить ее. А между тем он стоит и ждет ответа, он стоит с наклоненной головою и ждет.
– Герцог, – наконец начала она, – я так изумлена вашим предложением, оно так неожиданно, что я ровно ничего не могу сказать.
– Разве вы никогда не замечали чувства моего сына? – спросил вдруг Бирон.
Она едва совладала с собой.
«Какой глупый, какой низкий вопрос!»
– Я никогда ничего не замечала… я не могла даже себе представить, чтоб такой юноша, как ваш сын, мог обращать внимание на какую-либо женщину…
– Правда… мой сын еще юноша, но это ровно ничего не значит, его чувство к вам глубоко, искренне… да и, наконец, разве в нашем положении можно заботиться о разнице лет?.. Я знаю и ценю ваш ум, принцесса, я знаю, уверен, что вы на все взглянете настоящими глазами… Что же, изволите надеяться?..
– Ради Бога, не спрашивайте меня, я вам говорю, вы так меня поразили, я никак не ожидала ничего подобного…
Она взглянула на него и ясно увидела, что с ним шутить невозможно, что, откажи она ему теперь, когда у него в руках такая сила, он не задумается так или иначе погубить ее. И ей безумно, страстно захотелось отказать ему, посмеяться над ним, показать ему, наконец, как низко она его ставит, выразить, что она оскорблена этим предложением, что сын его, этого вчерашнего герцога курляндского, этого конюшего из Митавы, ей не пара. Но не потому не пара, что он сын бывшего конюшего, об этом она никогда не думала, даже не потому, пожалуй, что он совсем почти ребенок, а потому что он сын Бирона, врага России, врага всего, что ей дорого.
Но благоразумие заставило ее снова совладать с собою.
Она вспомнила, что должна удержаться именно ради всего, что ей дорого, должна побороть свои чувства не для себя. И она, опустив глаза, прошептала:
– Я ничего не имею против вашего сына, он хороший юноша. Но ведь я уж не молоденькая девочка, чтоб так скоро решиться, и тем более вы знаете мое отвращение от мысли о замужестве. Я вам не отказываю, но прошу только: дайте мне время хорошенько подумать.
– Подумайте, принцесса, – сказал Бирон, – да, действительно тут нужно хорошенько подумать. И я надеюсь, что при уме вашем и при вашем благоразумии вы действительно хорошо подумаете. Вы увидите тогда, что нам очень надо быть вместе, если будем действовать дружно. Вы видите теперь, что я не враг вам, что я пришел говорить по душе, искренне. Вы видите, что я ничего дурного не замышляю против вас. Я пришел звать вас в союзницы для общего блага… И вот, когда хорошо вы подумаете, то поймете, какая сила мы будем, если вы не откажете моему сыну, если принц Петр Голштинский сюда явится, и, кто знает, может быть, ему приглянется моя дочь…
«Вот что он задумал! Ловко! Да, видно, точно нужно действовать скорее и решительнее. Ждать опасно!» – думала Елизавета.
А герцог уже прощался.
– Мне пора в собрание, давно пора. Так я могу уехать от вас с надеждою?
– Да, я очень благодарна вам, – проговорила цесаревна, протягивая ему на прощанье руку.
Еще ни разу в жизни не приходилось ей так солгать, как теперь, еще никогда не видала ее в таком раздраженном состоянии Мавра Шепелева, как по отъезде герцога курляндского.
VI
От Елизаветы Бирон действительно отправился в чрезвычайное собрание кабинет-министров, сенаторов и генералитета.
Там все были уж в сборе, хотя многие не знали еще, зачем, собственно, призваны на этот день герцогом.
«Что он будет делать? Каков-то войдет?» – думали иные.
Еще вчера видели его в самом раздраженном состоянии. Он ни от кого не скрывал своего бешенства. Но теперь он вошел со спокойным лицом, любезно раскланялся на все стороны, перекинулся дружескими фразами с некоторыми сановниками и спокойно уселся в свое высокое кресло.
По обеим сторонам его поместились: Остерман, Миних, Черкасский и Бестужев. Несколько поодаль сидел генерал Ушаков, начальник Тайной канцелярии.
– А его высочества еще нет? – спросил Бирон.
Но не успели ответить, как дверь растворилась, и на пороге залы показалась маленькая, худенькая фигура принца Антона. Он входил с бледным, перепуганным лицом и робко озирался во все стороны.
Когда он получил рано утром приказание явиться в это заседание, то с ним чуть дурно не сделалось. Он знал, что должен будет разыгрывать здесь роль подсудимого, что будет окружен врагами.
Он так трусил, что даже решился было вовсе не отправиться, остаться и лучше уж у себя выслушать приговор.
Анна Леопольдовна едва уговорила его не делать этого; не срамить себя таким малодушием.
Он неловко, то краснея, то бледнея, поклонился собранию, как-то боком сел на оставленное для него место и опустил глаза, не смея ни на кого поднять их и пуще всего боясь встретиться со взглядом Бирона.
Он чувствовал, что все на него пристально смотрят, и еще больше терялся, бледнел и краснел от этого сознания.
На него действительно все смотрели и от него переводили взгляды на лицо регента.
Бирон молчал. Он, очевидно, наслаждался смущением своего противника и хотел подольше потомить его, помучить.
Так прошло около четверти часа. Все молчали, ожидая первого слова регента, и только некоторые передавали друг другу шепотом и сейчас же принимали опять строгий вид и внушительно откашливались.
Среди царствовавшего в зале молчания можно было, однако, расслышать странные, совсем не подходящие к этой минуте звуки. Кто-то по временам стонал, тяжко охал и даже слегка вскрикивал.
Этот кто-то был граф Остерман.
Он весь ушел в свое кресло, так что из-за стола было видно одно только его бледное, толстое лицо, да и то нижняя часть этого лица, так как верхнюю прикрывал зеленый зонтик.
Великий Остерман, – неизменная, живая душа государственного управления, – в последние годы объявил себя безнадежно и тяжко больным. По целым месяцам он сидел в своем кабинете, и когда ему необходимо было появиться на каком-нибудь чрезвычайном и важном заседании, то его туда переносили, и он с первой и до последней минуты обыкновенно стонал и охал, не снимал со своих глаз зеленого зонтика.
Многие внимательные и насмешливые люди того времени говорили, что этот зонтик очень удобная штука. Из-под него можно гораздо лучше и безопаснее наблюдать окружающих, а самому не поддаваться никаким наблюдениям.
Этот таинственный зонтик, эта вечная агония издавна служили Остерману верную службу.
Стеная и охая и представляя из себя жалкую карикатуру, он обделывал смелые, большие дела, достигал своих хитро задуманных целей, а в опасные минуты стушевывался и скрывался, и никто ничего не спрашивал с больного, умирающего человека.
Теперь он стонал и кряхтел с особенным удовольствием и даже не замечал действительной мучительной ломоты в ногах. Он знал, что заседание будет интересно, что принц Антон должен сыграть комическую сцену, а Андрей Иваныч очень любил комические сцены, если сам мог быть в них безопасным зрителем.
– Ох, – простонал он, обращаясь к сидевшему рядом с ним фельдмаршалу Миниху, – плохо я вижу, но мне кажется, что его высочество принц сегодня дурно себя чувствует. У него такое слабое здоровье, вы, граф, плохо укрепили его в ваших походах.
Миних ничего не ответил. Он давно уже пристально глядел на принца Антона и думал. Он думал о том, что если бы бедный принц знал его теперешние мысли, то, может быть, несколько бы ободрился и не глядел таким испуганным зверьком, не дрожал бы так под взглядом Бирона. Но он ни звуком, ни взглядом не ободрил принца. На его старом, сухом, красивом лице никто не мог прочесть его мыслей.
Наконец, Бирон прервал тяжелое, долгое молчание.
– Господа кабинет-министры, сенаторы, генералы, – обратился он к собранию на своем ломаном невозможном русском языке, – мы просили вас собраться для того, чтобы выяснить одно очень важное дело. Но прежде всего нужно кое с чем вас познакомить. Генерал, – обратился он к Ушакову, – прочтите показания, сделанные в Тайной канцелярии.
Страшный генерал Ушаков, сидевший до тех пор неподвижно, пошевелился на своем месте, откашлянулся и развернул лежавшие перед ним бумаги.
Теперь взоры всех обратились уж окончательно в сторону принца.
Антон Брауншвейгский побледнел еще больше, его губы тряслись, зубы стучали. Он знал, какие бумаги разбирает и приготовляется читать Ушаков.
Ушаков начал.
Это были признания приверженцев брауншвейгской фамилии, это было показание Граматина.
Ушаков читал медленно, слово за словом, и все внимательно слушали, и никто даже не нашел комичным слог Граматина, который на каждом шагу бессмысленно повторял: «Он мне сказал, я ему сказал».
У принца Антона уж голова кружилась. Он не слышал ни одного слова. Ему казалось, что все это собрание, все эти обращенные к нему лица качаются из стороны в сторону, начинают какую-то страшную, дикую пляску.
Лицо Ушакова с длинными седыми усами, иссиня-красноватым носом и опущенными теперь на бумагу глазами, казалось ему таким огромным, ужасным; это было лицо карающей Немезиды.
На Бирона принц ни разу не решался даже и взглянуть. Он знал, что если взглянет, так уж ни за что не вытерпит. Ему хотелось убежать отсюда или скрыться куда-нибудь под стол, но он не мог даже шевельнуться.
Наконец, все мысли остановились в голове его. Он продолжал слушать, ничего не понимая, только каждое слово, произносимое густым басом Ушакова, больно отдавалось в голове.
Но вот чтение окончено.
– Ваше высочество, – обратился к принцу регент. – Вы слышали? Потрудитесь же сказать нам: правда ли все это или здесь клевета? И если клевета, то опровергните ее.
Принц Антон молчал.
– Ваше высочество, я не знаю, чем вы недовольны. Я, кажется, делаю все, что могу; вот вам назначено двести тысяч рублей в год, тогда как цесаревна будет получать всего только пятьдесят тысяч. Мы всегда, кроме того, были готовы исполнить всякое ваше желание, а вы недовольны. Скажите мне, наконец, – тут голос регента, сначала тихий и даже довольно мягкий, зазвучал сильнейшим раздражением. – Скажите мне: чего бы вы хотели? Что вам угодно?
Принц продолжал молчать.
– Прошу вас, говорите, молчать невозможно теперь: мы все ожидаем от вас ответа!
Принц Антон хотел было подняться со своего места, но сейчас же опять и упал в кресло и, совершенно бессильный, помимо своей воли и неожиданно для себя самого произнес прерывающимся голосом:
– Я хотел произвести бунт и завладеть регентством.
Крупные слезы показались на глазах его, и он еще ниже опустил голову.
Тогда генерал Ушаков обратился к нему и начал громким, резким голосом:
– Если вы, ваше высочество, будете вести себя как следует, то все станут почитать вас отцом императора; в противном же случае будут считать вас подданным вашего и нашего государя. Конечно, вы были обмануты по вашей молодости и неопытности, но если бы точно вам удалось исполнить свое намерение и нарушить спокойствие империи, то я, хоть и с крайним прискорбием, а обошелся бы с вами так же строго, как и с последним подданным его величества.
Если бы несчастного принца Антона можно было теперь испугать, то, наверное, эта неожиданная и резкая выходка Ушакова заставила бы его вздрогнуть всем телом. Но он был так уже смущен и перепуган, что ничто больше не могло производить на него впечатления. Он даже почти не обратил внимания на слова Ушакова и ничего ему не ответил.
Тогда заговорил Бирон в сильном волнении, но тщательно скрывая свое раздражение:
– Да и на каком основании низвергать вы меня вздумали? Что ж, я самовольно разве похитил власть? Если я регент, то по распоряжению покойной императрицы, по согласию всех здесь присутствующих. Я не воровски занимаю свое место. Но что ж, я имею, конечно, право отказаться от регентства, как то и значится в уставе, и если это собрание сочтет ваше высочество больше меня способным к управлению империей, я сейчас же передам вам управление.
Он замолчал и обвел всех быстрым взором. Его щеки несколько побледнели. «А вдруг!.. – мелькнуло в голове его. – Но нет, не посмеют», – сейчас же он себя успокоил. И точно, не посмели.
Раздался голос Бестужева.
Этот голос подхватили многие.
– Нет, как можно! Вы вполне достойны. Мы просим вас оставаться регентом для блага земли Русской.
Бирон с нескрываемым самодовольством взглянул на принца Антона, а затем приподнял со стола лежавшее перед ним распоряжение императрицы Анны о регентстве и, указывая на него Остерману, сказал: