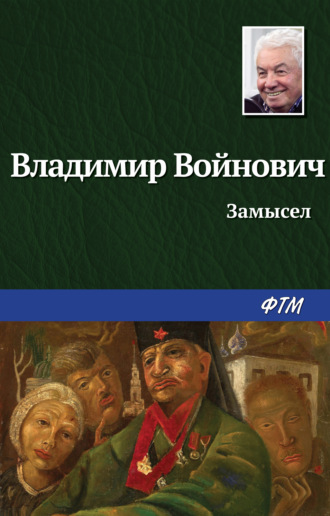
Владимир Войнович
Замысел
С печенью в сердце
В июле 1988 года в палату интенсивной терапии больницы района Богенхаузен в Мюнхене был доставлен русский писатель-эмигрант, который на плохом немецком языке и с помощью дополняющих речь междометий и жестов изобразил жжение в груди вроде изжоги. Дежурный врач вызвал заведующего отделением доктора Кирша. Тот, как выяснилось, бывал в Румынии и потому считал себя осведомленным в родном языке пациента.
– Спокойный вечер, – сказал он, войдя в палату, хотя было всего лишь позднее утро. – Имеете о чем пожалеть?
Писателю было, конечно, о чем пожалеть. Ему было жаль бесцельно растраченных лет, иллюзий, денег и еще того, что сорвалась поездка в Америку. Но он предположил, что его спрашивают не об этом. И догадался: на что он жалуется?
– Ja, ja, – сказал он охотно. – Ich habe etwas fьr пожалеть. Es brennt hier.
– Где печень? – спросил доктор, продолжая свои упражнения в русском языке. – Тут печень? – И положил руку больному на грудь.
– Найн! – испугался больной. – Моя печень есть здесь. – И показал на правую сторону своего живота.
– Вас? – озаботился доктор. – Здесь тоже печень? – Он встал со стула, воткнул пациенту в живот все десять пальцев и стал мять его, словно месил тесто. Пока месил, забавлял пациента беседой. – У вас в России большие события. Перестройка, гласность. Горбачев великий человек, а его Раиса очень шармантная дама. – Подумал, покачал головой. – Здесь никакой печень нет. Здесь есть печень. – Положил опять руку на грудь. – Здесь, – повторил, – печень нет, здесь есть.
Больной заволновался. Он допускал, что в результате нездорового образа жизни и чрезмерного употребления алкогольных напитков печень могла сместиться, но неужели так далеко? Подумав, он сообразил, в чем дело, но решил уточнить:
– Доктор, вы имеете в виду, что здесь brennt, то есть печет?
– Яволь! – сказал доктор, довольный, что его наконец поняли. – Здесь печень.
– А здесь не печет?
– Здесь нет печень, – согласился он и принялся делать больному кардиограмму.
Кардиограмма оказалась нехорошей, а в эстетическом отношении и совсем безобразной. Вместо привычных высокогорных зазубрин с острыми углами какие-то кривые ползучие волны, словно проведенные пьяной рукой.
– Но вы не нуждаете иметь никакое волнение, – сказал доктор ласково, – сейчас будем сделать для вам eine Spritze,[4] и вы будете стать совсем покойный.
Немного о смысле жизни
Году приблизительно в 1970-м один доморощенный проповедник, склоняя В. В. к религии и вере в загробную жизнь, сказал:
– Этого не может быть, чтобы жизнь человека проходила без всякого смысла и кончалась просто ничем. Даже дерево для чего-то существует. Оно поглощает углекислый газ и выделяет кислород для поддержания нашей жизни.
– А мы наоборот, – глубокомысленно заметил В. В. – Кислород вдыхаем, углекислый газ выдыхаем, поддерживаем жизнь деревьев.
Надежды разного свойства
К тому времени, когда В. В., как выражаются англоязычные люди, нашел себя в больнице, на его родине уже третий год шел через пень-колоду исторический процесс, называемый перестройкой. На который В. В. возлагал скромные надежды генерального и личного свойства. Будучи не слишком самонадеянным, В. В. все же лелеял предположение, что в отечественных пределах неприсутствие его как-нибудь ощущается и вот-вот то ли возникнет некое лицо или группа лиц, то ли по почтовым каналам прибудет депеша с почтительным реверансом: давайте, мол, незабвенный, складывайте ваши манатки и возвращайтесь, нам очень вас не хватает. Но, видимо, напрасны и преждевременны были его надежды, и В. В. чем дальше, тем отчетливей замечал, что ни перестройка, ни гласность (немцы произносили «глазность»), никак его не касаются. Увы. В перестроечной прессе мелькали не упоминаемые прежде факты, события, даты, названия и имена, среди которых В. В., напрасно мусоля палец, себя обычно не обнаруживал, а если и обнаруживал, то огорченно вздыхал. Прямо скажем, не часто его поминали, но если уж поминали, то называли врагом перестройки и, как в старые добрые времена, со всякими нечистоплотными и отвратительными животными сравнивали. А соотечественники, которые ему стали все чаще и чаще встречаться, тоже вели себя странно. Говорили медленно, как бы предполагая, что он или забыл русский язык, или оглох, и все время невпопад употребляли личные местоимения. Говорили восхищенно: ваши магазины, ваши дороги, ваша природа! Нам до вас еще далеко. В. В. иногда удивлялся и пытался втиснуть свой комментарий, что это у них магазины, дороги, природа, а я, мол, к ним отношусь по временному недоразумению, а вообще-то я как бы один из вас… из нас… тут он и сам начинал сильно путаться, краснеть и сердиться. И думать: а чего это они так настойчиво отделяют его от себя? И хотя корреспондентка В. В., называемая в данном сочинении Элизой, кое-что ему объяснила, он всех встреченных за последнее время советских людей не мог заподозрить в принадлежности к КГБ. Но некоторых трудно было не заподозрить в идиотизме. Десятки встреченных относились с великодушной ухмылкой и, еще не выслушав, перебивали, что он отстал от времени и происходящего в России ему никак не понять. Он думал и не мог взять в толк, когда он так сильно отстал и от чего. Пока не заметил, что те же самые люди на каждом шагу задают один и тот же вопрос: почему он не возвращается? Нет, не говорили, мол, пожалуйста, возвращайтесь, а спрашивали с упреком: почему не возвращается? Тогда он стал встречно интересоваться: если вы от времени не отстали и знаете, что происходит в вашей стране, то, может быть, вам известно и то, что некоторые люди, и среди них ваш покорный слуга, лишены советского гражданства, а советская наша (ваша) граница все еще на замке?
Пройдет еще два с лишним года, прежде чем перестроечный президент на закате своей карьеры решится издать указ, возвращающий лишенцам возможность вернуться на родину. А пока один и тот же вопрос повторяется без конца, и задающие его, не слыша ответа, подставляют свой, самый пошлый из всех, какие только можно придумать: он не возвращается потому (почему? почему?), что не может жить без западной колбасы.
Тем временем у них в России начался книжный бум. Из печати выходит то, что раньше писалось в стол. «Дети Арбата», «Белые одежды», «Ночевала тучка золотая», «Пушкинский дом»… Читайте, завидуйте. Завидуйте, особенно те, кто писал всегда исключительно в пределах сегодня возможного, приноравливал свое перо к обстоятельствам, писал по указке КПСС. Читающая публика заволновалась. Тиражи толстых журналов достигли немыслимых величин, но за спросом не поспевали. Очереди в библиотеках растянулись на месяцы.
В. В. следил за всем издалека и вдруг засуетился – может быть, никогда в жизни так не суетился. Очень уж захотелось попасть в число печатаемых, читаемых и обсуждаемых. И тем обиднее показались всякие предположения насчет приверженности его здешним нашим (их) колбасным изделиям.
Из письма другу
…Можешь себе представить, что в связи с перестройкой здесь вошло в моду все русское. Продают изображения Горбачева и Раисы, матрешки, командирские часы, майки, на которых по-русски написано С.С.С.Р. или даже просто начертаны русские буквы вразброс, но без всякого смысла, вроде: ВПЦДДЫМЛЪЮЕ. Кириллица некоторым здешним людям кажется настолько непостижимой, что один немец всерьез спрашивал меня, неужели из этих букв правда можно складывать какие-то слова. Все большим спросом пользуется русская литература. Нет, не жалкая эмигрантская, скромным представителем которой числится ваш корреспондент, а изготовляемая в России. Сочинители этой литературы в одиночку и группами путешествуют по территориям западных стран, в том числе и Германии. За ними бегут толпы издателей, соревнуясь в желании не упустить нового российского гения, который немедленно объявляется как российский Der Grцbte Lebende Schriftsteller – Величайший Живущий Писатель. Причем величайших оказалось такое количество, что непонятно, остались ли в России просто великие, просто хорошие или просто простые. Величайший Живущий Писатель Рыбаков, Величайший Живущий Писатель Битов, Величайший Живущий Писатель Приставкин, Величайший Живущий Писатель Попов, Величайшая Живущая Писательница Токарева. Один мой знакомый называет их для краткости ВЖП. Откровенно говоря, наблюдая за передвижениями и речами ВЖП, я первое время втайне надеялся, что, может быть, кто-нибудь из них замолвит словечко и за меня. Ведь они не только ВЖП, но еще и ПП – прорабы перестройки. Со всевозможных трибун выступают с пламенными речами, призывая к стиранию белых пятен, то есть к открытию замалчиваемых прежде явлений, предметов, имен. А поскольку имя автора этих строк тоже стоит в списке замалчиваемых, я все ждал и, признаюсь, даже как бы и предвкушал, что кто-нибудь из разъезжающих героев вспомнит и обо мне.
Подходящих случаев было достаточно. Например, серия вечеров русской литературы, устроенных в здешней Академии при нашем с Ирой содействии. Были приглашены видный критик, два поэта и два прозаика, одним из которых оказался Кирюша. Все шло хорошо, но под конец случилась небольшая перепалка. Кирюша на своем вечере сообщил публике, что свобода, наступившая при перестройке, имела странный эффект: немедленно опустошила ящики письменных столов. Что-то писалось, копилось, лежало годами. Казалось, накоплено столько, что хватит на века. Но время пришло, сразу все напечатали, люди-то думают, что это еще начало, а это уже конец. Печатать больше нечего. Год тому назад я слушал того же выступальщика с теми же утверждениями в Нью-Йорке, но тогда спорить не стал.
И здесь его вечер омрачить постеснялся. Но потом у нас был общий ужин в ресторане, и там я в присутствии академической публики и журналистов сказал: утверждение о том, что вся литература опубликована, не очень точно. Есть целая литература, которую называют эмигрантской, она, не считая отдельных покойников, еще совсем не опубликована, и пока это так, доверять сказкам, что в России наступила полная свобода, следует с осторожностью. А московским коллегам, которые сюда приезжают по нашим приглашениям, не надо пытаться нам же за это вешать лапшу на уши. Кирюша, конечно, понял (и трудно было не понять), что камень в его огород, но возразить ничего не посмел, а начал бурчать вполголоса, что нельзя бороться с тоталитаризмом тоталитарными методами. Какое это имело отношение ко мною сказанному, я не понял, но, между прочим, думаю, что с тоталитаризмом только тоталитарными методами и можно бороться. Тоталитаризм ко всем другим методам не чувствителен. Должен признать, что мое выступление было воспринято не только Кирюшей, но и немецкой публикой с неудовольствием: зачем же ставить гостя в неудобное положение? Тем более что его принимают здесь за либерала (кем он, допустим, может считаться) и за героя, – тут уж, как говорится, ха-ха. Я помню, как лет десять назад Кирюша, будучи одним из составителей известного альманаха, сначала согласился, а потом отказался поддержать своих исключаемых из СП коллег и сказал знаменательную фразу: человек имеет право один раз в жизни отказаться от данного им слова. Меня тогда поразила не робость поведения (это уж ладно), а абсолютная нехудожественность формулировки. (Для меня художественность – это точность.) Что значит один раз? Какой именно раз: тот или этот? Из какой раскладки вытекает, что не сдержать слово можно один раз, а не два, не три, не четыре? Я уверен, что человек подлинного таланта всегда отличается и подлинностью поведения. Конечно, в какой-то критической ситуации он может струсить, но быть трусом всегда не может. В прошлом году он встречался в Америке с Ефимом и еще какими-то эмигрантами, включая автора этих строк, а потом в «Московских новостях» немедленно и без видимой необходимости ото всех отрекся, сказав, что с Ефимом у него ничего общего нет, а эмигранты отстали на пятнадцать лет (непонятно, от кого отстали и почему именно на пятнадцать, а не на больше или на меньше, кто подсчитал?).
И вот другой визитер, тоже возведенный в ранг ВЖП. В Штокдорфе за водкой и пельменями состоялся у нас разговор, который передаю почти дословно.
– Обожаю пельмени, – сказал ВЖП. – Хотя мне это совершенно не нужно. Разжирел. Врач говорит: нужно держать диету, и самую строгую. А я не могу. Люблю пожрать, и ничего не поделаешь. А здесь бы я вообще помер. У вас тут такие колбасы, такие сыры. Ты уже, конечно, не вернешься? – вывел он свой вопрос прямо из гастрономии.
Я занервничал. Эта сказка про белого бычка мне изрядно уже надоела.
– Друг мой заезжий, – сказал я ему, – в моем теле кроме желудка, входа в него и выхода, размещены еще всякие органы и железы, которые вырабатывают мысли, желания, сомнения, радости, печали, любовь к ближнему, детям, животным, природе и родине. И надежду на то, что я обязательно вернусь на свою родину, буду там жить, писать, печататься, любоваться березками и топить печку березовыми дровами. А поскольку ты такой влиятельный человек, вот и поспособствуй тому, чтобы это случилось.
– Чему поспособствовать? – спросил он.
– Моему возвращению.
– Но ты же не хочешь.
– Кто тебе это сказал?
– Ты.
– Я тебе этого не говорил.
– Старик, – сказал он, кладя на тарелку недожеванный пельмень. – Ты только что сказал, что ты отсюда не уедешь, потому что здесь такая колбаса, такие сыры…
Я пытался говорить с ним медленно и рассудительно, как с душевнобольным.
– Слушай, про колбасу говорил ты, а не я. Я сказал что-то прямо противоположное. Я сказал, что хочу вернуться.
– А зачем? Зачем? – никак он не мог понять. – Ты там жить все равно не сможешь. Ты можешь обижаться, когда говорят про колбасу, но я тебе скажу, это правда, человеку, привыкшему к здешней пище…
– Я не привык, – перебил я его. – Я не ем колбасу. Мое любимое блюдо: картошка с постным маслом и с луком.
– Где ты ее возьмешь? – сказал он и в волнении укусил салфетку. – Картошки на рынке нет, а в магазинах только гнилая. Капуста отравлена пестицидами. Морковь – гербицидами. Помидоры – нитратами. А постного масла днем с огнем не сыщешь. В магазинах пусто. Негде купить штаны. Запчастей для машины не найдешь. Сковородку я везу отсюда. Электролампочки не достанешь. Телевизоры горят. Мясо тухлое. В больницах больных заражают СПИДом. Дети в Чернобыле рождаются с двумя головами.
Я пытался ему возразить. Я сказал:
– Не пугай. Некоторые одноголовые еще как-то живут и голода, слава богу, нет.
– Есть, есть голод! – закричал он. – Жрать совершенно нечего.
Тогда я, не удержавшись, съехидил:
– А как ты борешься с лишним весом?
Представь себе, он не уловил ехидства и чуть не заплакал, говоря, что с лишним весом никак не борется, потому что в диетических магазинах так же пусто, как во всех других. Но под конец, забыв все предыдущее, пообещал:
– Если когда-нибудь приедешь, можешь рассчитывать на пельмени не хуже этих.
…Поверь мне, я нисколько не сомневаюсь в необратимости происходящих событий и в том, что гражданство мне рано или поздно будет возвращено. Но хотел бы получить его пораньше, сейчас. Мне кажется, это мало кто понимает, но события происходят грандиозные, я бы даже сказал, величайшие в современной истории, и я хочу принять в них участие (сам, впрочем, ясно не представляю, какое именно). Я не забываю, что вступил в такой возраст, когда, если еще есть какие-то желания, с исполнением их стоит поторопиться. Потому-то и суюсь со своими вопросами о гражданстве к каждому, кто сколько-нибудь приближен к сегодняшней власти.
Недавно был у меня в гостях один депутат, известный, как он про себя говорит, правовед. Хвастался своей близостью к Горбачеву и своей прогрессивностью по части принятия новых законов. Я и его спросил насчет гражданства. Он сказал: «Никаких проблем. Напиши письмо Горбачеву, скажи, что хотел бы вернуться, способствовать перестройке, что никаких материальных претензий нет. Напиши проникновенно, со слезой, он это любит». Я разозлился. «Ты меня не понял, – сказал я. – У меня материальные претензии есть. У меня к советской власти вообще много претензий. И первая состоит в том, что гражданство должно быть мне возвращено не в порядке оказания милости, а как принадлежащее мне по бесспорному праву. Без всяких слезных прошений». – «Ну, как же, как же, – пытался он не упустить формальную сторону дела. – Для того чтобы дать гражданство, нужно какое-то основание». – «Не дать, а вернуть, – поправил я. – Разве тебе, правоведу, не должно быть понятно, что лишение честного человека гражданства есть преступление? Пока брежневские, андроповские и черненковские указы о лишении людей гражданства не отменены, преступление продолжается». – «Я с тобой согласен, – сказал правовед, – но все-таки, если ты хочешь получить гражданство, надо написать заявление». – «Нет, заявление писать не буду. Я не писал заявление, чтобы меня лишили гражданства, и не буду писать, чтобы мне его возвратили». – «Но если ты думаешь, что тебе вернут гражданство без твоей просьбы, это наивно». – «Тогда наивно думать, – сказал я, – что я попрошу».
И что ты думаешь? Правовед сделал из этого вывод, что я просто не хочу вернуться, а условия свои ставлю для саморекламы. Мне спорить надоело, и я сказал:
– Да, ты прав, я возвращаться не хочу. А ты хочешь и даже спешишь, потому что твоя электричка уходит через двадцать минут, а я выпил и на машине в город отвезти тебя не смогу.
Я хотел и на нашу станцию отправить его пешком, но пожалел и довез.
Чтобы изобразить весь спектр предпринимаемых мною попыток, расскажу о встрече в Вашингтоне с депутатом еще более важным, чем посетивший меня в Штокдорфе. Депутат выступал с докладом о работе Верховного Совета, где он занимает пост председателя какой-то комиссии. И вот я его спросил сначала публично, а потом в кулуарах, не собирается ли Верховный Совет принимать решения по поводу лишенных гражданства.
Публично он мне ответил, что, конечно же, собирается, а в кулуарах объяснил, что это вопрос второстепенный и у Верховного Совета есть дела поважнее. Я возразил, что более важных дел, чем немедленная отмена бандитских законов и принятие новых, уважающих права человека, у Верховного Совета нет. Он возражать не стал, но спросил, почему меня это так волнует. Я ему объяснил. Он мое объяснение истолковал по-своему.
– То есть вы хотите посетить Москву? Я думаю, что это возможно. Напишите мне письмо, я постараюсь для вас что-нибудь сделать. Адрес у меня простой: Москва, Кремль, мне. Меня там найдут, – добавил он самодовольно.
Я сперва разозлился и хотел послать его не в Москву-Кремль, а по более подходящему адресу, но сдержался. По дороге домой и вовсе остыл и стал думать: а чего я суечусь и куда лезу? Пока книги мои запрещены, я могу о них не беспокоиться. Книги запрещенные живут дольше незапрещенных, живут по крайней мере до тех пор, покуда запрещены. А что касается всякой активности, то, может, судьба намеренно меня от нее оберегает, чтобы я занимался своим делом, а не доступной каждому суетой. И гражданство, что ж… Оно в настоящем смысле не паспортом удостоверяется. А впрочем, от высокого штиля воздержимся.
Элиза Барская. Общий рынок
Общий Рынок – это Люськин восьмой или девятый муж, какой именно, она сама точно не помнит. Когда я спрашиваю, сколько их было, она начинает загибать пальцы: Марик, Леня, Борис, Славка Первый, Славка Второй, Сашка… Она не знает, считать ли Игоря, с которым вместе жили, заявление подавали, но разошлись до расписки. Правда, ни с одним из Славок она тоже расписана не была, но с обоими справляла свадьбу, а от Славки Второго у нее сын Степа.
– Короче говоря, – сбившись со счету, говорит Люська грустно и гордо, – у меня их было больше, чем у Элизабет Тэйлор.
Общий Рынок был найден и подобран ею в Сочи, на пляже для иностранцев «Жемчужина», куда она попала благодаря своему папаше – бухгалтеру (кажется, главному) «Интуриста». По паспорту Рынка зовут Владлен, он работает инженером по холодильным установкам, что способствует его широким связям в торговом легальном и подпольном мире. Вся его одежда от носков и трусов до галстуков и запонок не из Болгарословакии, как он презрительно называет весь Восточный блок, а из стран Общего рынка. Вот откуда его прозвище. Даже презервативы он достает исключительно западного производства, некоторые очень мудреной конструкции. Один из них Люська подарила мне, но если бы я предложила его надеть моему мужу, то очень бы его удивила, любовников у меня нет, а подарок я, пожалев выкинуть, держу в шкатулке с моими, если так можно сказать, драгоценностями: малахитовым перстнем, янтарными бусами и дедушкиным серебряным стаканчиком для водки со старинной надписью: «Пей, да дело разумей».
Что касается истории с Общим Рынком, то она была простая – из анекдотов о муже, вернувшемся из командировки.
Вернувшись из командировки, Общий Рынок застал Люську с Феликсом Фельдманом. Люська была так беспечна, что даже не позаботилась закрыть дверь на цепочку. Поза была красноречива: Феликс, поставив Люську раком, смотрел по телевизору встречу наших хоккеистов с канадцами и при этом грыз яблоко. Телевизор был включен на полную громкость, почему они и не услышали звука открываемой двери.
Люська очень смешно (может, даже и привирая) рассказывала, как, увидев мужа в расстегнутом пальто и с портфелем, она растерялась и спросила, почему он приехал раньше времени, а Феликс сообщил ему огорченно, что наши опять выигрывают (он, конечно, болел не за наших), и только после этого опомнился, схватил штаны и убежал в ванную. А когда, приготовившись к смертельной схватке, решился выйти, то увидел, что Рынок досматривает хоккей, находясь в той же позиции, в какой застал Феликса, и к тому же догрызает яблоко, которое бросил Феликс. (Насчет яблока я не поверила, но Люська божилась, что так все и было.) Потом они трахали Люську вдвоем, по очереди и одновременно. Рынку это так понравилось, что через несколько дней он предложил Люське опять пригласить Феликса. На что Люська, со свойственной ей последовательностью, надавала ему по морде и выгнала из дому, сказав, что такие предложения он может делать своим блядям, но не родной жене.







