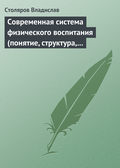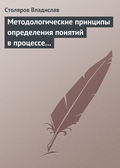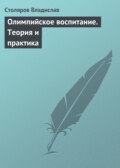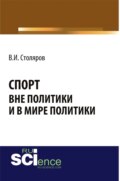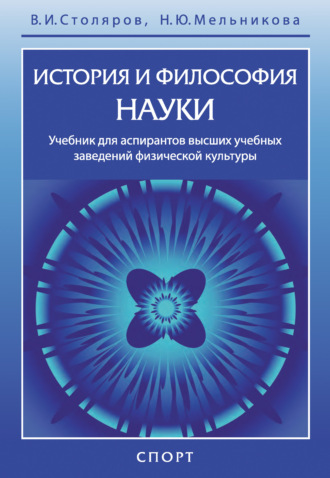
Владислав Иванович Столяров
История и философия науки
1.1.3. Мышление и память
Мышление и память некоторым образом связаны между собой. Но вряд ли эта связь носит такой характер, что если у человека прекрасная память, то он имеет и такую же мыслительную способность. Скорее даже наоборот. Ведь не случайно психика человека устроена так, что он многое забывает. Конечно, как доказали многочисленные эксперименты, вообще-то память человека в принципе хранит все то, с чем имел дело ее обладатель на протяжении всей жизни.
• Об этом, в частности, свидетельствуют эксперименты канадского нейрофизиолога и нейрохирурга У. Пенфилда, который во время операций на мозге раздражал слабым током височные зоны коры. Больные, которым раздражали височные зоны коры мозга, переживали удивительно яркие, насыщенные мельчайшими деталями картины своей прошлой жизни, воспроизводили в своей памяти многие факты, начисто забытые ими. Эти переживания У. Пенфилд назвал «вспышками прошлого». Он провел несколько сот подобных экспериментов. Обобщая их, он пришел к выводу, что мозг человека хранит все, что хотя бы однажды воспринималось.
• Аналогичные опыты проводили французские психологи. Например, путем особых воздействий на мозг старой малограмотной женщины заставили ее часами декламировать древнегреческие стихи, ни содержания, ни смысла которых она не понимала, и «помнила» только потому, что когда-то, много лет назад, какой-то прилежный гимназист заучивал их при ней вслух. А рабочий-каменщик тоже «вспомнил» и точно нарисовал на бумаге причудливые извивы трещины в стене, которую ему когда-то пришлось ремонтировать.
Хотя в принципе человек запоминает все, огромную массу бесполезных и «не работающих» сведений мозг погружает в особые темные кладовые памяти, ниже порога сознания. Лишь небольшая часть информации хранится в мозгу, так сказать, в активном состоянии, под рукой и всегда при нужде может быть усилием воли вызвана на свет сознания. Эта информация тесно связана с тем, что непосредственно интересует человека, с его деятельностью. В особых – ненормальных – случаях весь хлам, накопившийся в кладовых памяти за много лет, всплывает на поверхность высших отделов коры головного мозга, на свет сознания. Человек вспоминает тогда вдруг массу мелочей, казалось бы давно и окончательно забытых. И вспоминает именно тогда, когда мозг находится в бездеятельностном состоянии, чаще всего, в состоянии гипнотического сна, как в опытах французских психологов. Это и понятно, ибо «забвение» – не недостаток. Как раз наоборот, – «забывание» осуществляют специальные механизмы мозга, охраняющие отделы его активной деятельности от затопления ненужной информацией. Если бы в один прекрасный момент крепкие замки забвения были сорваны с темных кладовых памяти, все накопившееся там хлынуло бы в высшие отделы коры и сделало бы ее неспособной к мышлению – к отбору, сопоставлению, умозаключению и суждению[10].
Тот факт, что «забывание» не недостаток, а наоборот, преимущество нашей психики, свидетельствующее о наличии специально осуществляющего его «механизма», наглядно продемонстрировал психолог А. Н. Леонтьев на сеансе с С. В. Шерешевским, который обладал «абсолютной» памятью. С одинаковым успехом он запоминал формулы, слова, бессмысленные слоги, которые мог воспроизвести через любой промежуток времени. С одного раза он мог воспроизвести в любом порядке и спустя любое время список в сто, двести, тысячу слов. После одной из демонстрации этой способности Шерешевскому был задан такой вопрос: «Не припомнит ли он среди отпечатавшихся в его памяти слов одно, а именно: название острозаразной болезни из трех букв?». Наступила заминка. Тогда экспериментатор обратился за помощью к залу. И тут оказалось, что десятки людей с «нормальной» памятью помнят то, что не может вспомнить человек с «абсолютной памятью». В списке было слово «тиф», и многие люди совершенно непроизвольно зафиксировали это слово[11]. Как отмечает Э. В. Ильенков, «нормальная» память «спрятала» это слово в кладовую мозга «про запас», равно как и все остальные девятьсот девяносто девять словечек. Но тем самым высшие отделы коры, ведающие мышлением, получили возможность для своей специальной работы, в том числе для целенаправленного «воспоминания» по путям логической связи. «Мозгу же с абсолютной памятью работать оказалось так же трудно, как желудку, битком набитому камнями».
Поэтому понятен тот вред, который мышлению наносит «зубрежка». Ведь она калечит «естественный» механизм мозга, который охраняет высшие отделы коры от наводнения хаотической массой бессвязной информации. Мозг насильственно принуждают «запоминать» все то, что он активно старается забыть, запереть под замок, чтобы оно не мешало мыслить. Мозг человека изо всех сил сопротивляется такому пичканью непереваренной информацией, старается погрузить ее в низшие отделы коры, забыть, а его снова и снова дрессируют повторением, принуждают, сламывают, пользуясь разными средствами. И в конце концов своего добиваются. Но какой ценой: ценой способности мыслить. Хорошо еще, пишет Э. В. Ильенков, если воспитуемый не очень всерьез относится к зазубриваемой им ненужной «премудрости», если он просто «отбывает номер». Тогда его не удается искалечить до конца. «Безнадежные же тупицы вырастают нередко как раз из самых послушных и прилежных «зубрил», подтверждая тем самым, что и «послушание» и «прилежание» – такие же диалектически коварные достоинства, как и все прочие «абсолюты», в известной точке и при известных условиях превращающиеся в свою противоположность, в недостатки, в том числе непоправимые»[12].
К зубрежке, подкрепляемой повторением, многие особенно часто прибегают в тех случаях, когда сталкиваются с такими положениями, которые представляются совершенно очевидными. Действительно, если человек сталкивается с проблемой, которую он считает сложной, это побуждает его задуматься, «пошевелить мозгами», определить различные варианты ее решения, оценить их и т. д. А если какое-то положение (например, «2×2=4») представляется человеку очевидным, он считает целесообразным просто запомнить данное положение, не утруждая себя какими-то размышлениями над ним.
Такая позиция, справедливая в некоторых случаях (например, при изучении иностранного языка действительно требуется постоянно включать прежде всего память), как правило, непригодна в науке. Именно это, по-видимому, имел в виду немецкий писатель Б. Брехт, когда писал, что «человек, для которого то, что дважды два четыре, само собой разумеется, никогда не станет великим математиком». Действительно, разве не всегда при сложении 2 и 2 в сумме получается 4? Нет, не всегда.
Вот несколько иллюстраций этого.
• Две капли воды при «сложении» в зависимости от условий могут дать одну каплю, а могут и двадцать одну. Два литра воды, «сложенные» с двумя литрами спирта, никогда не дадут четырех литров водки, а всегда чуть-чуть меньше.
• Если речь идет о движении физических тел, то, прибавляя к 20 млрд. см/сек еще 20 млрд. см/сек, мы, как бы это не казалось странным с точки зрения здравого смысла, получаем не 40 млрд. см/сек, а только 27,3 млрд. см/ сек. Дело в том, что результирующая скорость всегда будет меньше суммы ее составляющих (если скорости малы по сравнению со скоростью света, тот этот эффект все равно существует, хотя он и очень мал)[13].
• Применительно к другим физическим явлениям 2+2 может быть равно 0, а иногда 2+2 равно 8. Пусть мы направляем пучок электронов из электронной пушки на непроницаемое препятствие, в котором имеются два отверстия А и В. Поместим в отдалении за препятствием счетчик Гейгера и закроем отверстие В. В этом случае счетчик будет регистрировать ежесекундно 2 электрона. Теперь откроем отверстие В и закроем отверстие А. И вновь получим 2 отсчета в секунду. А теперь откроем оба отверстия. Счетчик вообще перестал регистрировать электроны! Результат не только меньше суммы двух слагаемых, как в случае сложения скоростей, он меньше каждого из слагаемых. При желании можно подвигать счетчик в вертикальном направлении и можно найти точку, в которой он будет давать 8 отсчетов в сек, т. е. вдвое больше простой суммы двух слагаемых. На первый взгляд, всему этому трудно поверить, но это действительно так, и это обусловлено волновой природой вещества.
Положение «дважды два = четыре» справедливо лишь применительно к твердым, непроницаемым друг для друга телам. Но не все тела таковы. Именно на этом основании делается вывод о том, что положения математики не соответствуют свойствам реальных объектов и вся математика от начала до конца – это лишь субъективная искусственная конструкция, плод «свободного» творчества математиков. Но если занять эту позицию, совершенно непонятно, почему математика вообще применима к эмпирическим фактам и эффективно «работает» в ходе научного исследования реального мира. Человеку, который желает стать математиком, а тем более великим (о котором писал Б. Брехт), и надо во всем этом разобраться, а не принимать на веру как совершенно «очевидное» положение о том, что «дважды два – четыре».
Выше охарактеризованы общие особенности мышления человека. В различных видах деятельности мышление приобретает определенные особенности. Например, основная черта мышления в спортивной деятельности – наглядно-действенный характер, когда спортсмен решает интеллектуальные задачи непосредственно в процессе деятельности, опираясь на восприятие объективных условий и ситуаций, в которых она протекает, при крайнем, в большинстве случаев, дефиците времени. Особое внимание в последующем тексте будет уделено характеристике мышления в процессе научного познания.
1.1.4. Место чувственного и рационального в познании
Итак, в структуре познания выделено два элемента – чувственное и рациональное познание. Относительно их места в познании возникают две важные проблемы:
1) можно ли чувственное и рациональное рассматривать как два этапа познания;
2) что важнее – чувственное познание или мышление.
Являются ли чувственное и рациональное двумя этапами познания? Иногда (даже в некоторых современных публикациях) чувственный опыт (созерцание) и мышление рассматривают как две ступени, два этапа познания, следующие одна за другой.
С положением о том, что чувственное познание предшествует рациональному, можно согласиться; если иметь в виду историю познания, то можно утверждать, что чувственное предшествует рациональному. Ведь чувственное созерцание мира существует, когда абстрактного мышления нет и в помине, например, у некоторых животных.
Иначе обстоит дело, когда речь идет о познавательной деятельности современного человека. Здесь чувственный опыт и мышление не разделены во времени, это две одновременно существующие стороны человеческого познания. Об этом говорят даже простейшие опыты.
• Один из них – опыт французского психолога Альфреда Бинэ. Он демонстрировал различным людям чернильную кляксу на бумаге и просил сказать ему, что это такое. Как обнаружил Бинэ, дети никогда не отвечают, что на рисунке просто чернильное пятно. Они говорят: «собака», «облако» и т. д. Что касается взрослых, то оказалось, что ничего не видят в кляксе, как правило, только нервнобольные, страдающие определенными мозговыми заболеваниями. Поэтому немецкий психиатр Роршах успешно использовал опыт с чернильным пятном как один из тестов для диагностики этих заболеваний.
• Другой опыт известен под названием «иллюзия Шарпантье». Разным людям предлагается определить, взвешивая на руке, тяжесть двух цилиндров одинаковой формы, но разного размера. Как показывают проведенные опыты, всем людям всегда кажется, что меньший цилиндр более тяжел. Даже если при них цилиндры ставят на весы, все равно: как только испытуемые берут цилиндры в руки, они не могут отделаться от ощущения, что меньший цилиндр более тяжел. Но это имеет место при одном условии: глаза человека, оценивающего вес цилиндров, открыты. В этом случае даже слепые от рождения люди, которые не видят цилиндров, а ощупывают их, также как и зрячие, подвергаются иллюзии Шарпантье. Это свидетельствует о том, что дело отнюдь не в непосредственном зрительном ощущении. По-видимому, эта иллюзия возникает вследствие того, что испытуемый бессознательно делает умозаключение об удельном весе.
Опыт Бинэ – Роршаха и иллюзия Шарпантье, равно как и многие другие, показывают, что у человека к деятельности органов чувств всегда присоединяется деятельность мышления. Это определяется рядом факторов.
Во-первых, чувственные впечатления человека всегда носят осмысленный характер, связаны с мышлением. Он всегда видит не какие-то отдельные поверхности, линии и тела, не цвета, пятна и полосы, а предметы. Тем самым, когда человек останавливает свое внимание на каком-либо предмете, он производит интеллектуальный акт. Особенно ярко это обнаруживается в научном исследовании. В процессе наблюдения исследователь часто не может видеть самого изучаемого объекта. Он воспринимает лишь его след, результат воздействия на прибор. Так, физик фиксирует электрон в камере Вильсона по оставленной им траектории. Совершенно очевидно, что он не смог бы ничего сказать о свойствах электрона, если бы не знал, что светлая полоса есть след электрона. Наблюдая звездное небо, люди видят лишь светлые точки и их перемещения по небесному своду. В далеком прошлом люди считали эти точки отверстиями в небесном своде. Современные люди, опираясь на имеющиеся у них знания, отождествляют их со звездами и планетами. Значит, не только чувства доставляют материал для мышления, но и последнее влияет на результаты чувственного восприятия.
Во-вторых, следует учитывать, что получаемые человеком знания формулируются в языке, а при этом обязательно присутствует мыслительный акт.
Значит, у человека (по крайней мере взрослого индивида) в отличие от животных, не обладающих мышлением, нет чистых ощущений, восприятий и представлений, т. е. такой информация, которая отождествляется с самим объектом. Для человека – это такая информация об объекте, которая, как выражаются в кибернетике, содержит значительный «шум», затемняющий реальные свойства объекта. Поэтому информация, получаемая с помощью органов чувств, корректируется с помощью мышления непосредственно в процессе чувственного опыта и в ходе дальнейшего познания.
Вот почему, если речь идет о современном человеке (а не об истории становления сознания и познания), ошибочно рассматривать чувственное и рациональное как две ступени познания. Это – две неразрывно связанные стороны, два элемента познания.
Что́ важнее – чувственное познание или мышление? Некоторые мыслители – как материалисты (Ф. Бэкон, Д. Локк), так и идеалисты (Д. Беркли) – утверждали, что решающая роль в познании принадлежит чувственности. Они не отрицали пользы мышления, но заявляли, что разум не дает ничего нового в познании. Философов, которые придерживаются такого мнения, называют сенсуалистами (лат. “sensus” – чувство, ощущение) за их преувеличение роли чувственного опыта в познании.
Так, например, Д. Локк (XVII в.) считал, что душа человека подобна чистой доске. С рождения она не содержит ни одной идеи и заполняется ими по мере воздействия внешних предметов на органы чувств человека. Вначале у человека формируются простые идеи – ощущения и восприятия. Сложные идеи создаются разумом; они представляют собой простую комбинацию чувственных данных и не содержат в себе, по существу, ничего нового.
Другие философы, напротив, считали, что центральную роль в познании играет не чувственный опыт, а логическое мышление, разум. Таких философов называют рационалистами. Среди рационалистов также были и материалисты (Б. Спиноза), и идеалисты (Г. Лейбниц). В отличие от сенсуалистов, рационалисты решающую роль в познании признают за разумом, относя чувственные знания к недостоверным, «темным» знаниям. Значение чувственности рационалистами принижается, а иногда отрицается вообще.
Древнегреческий философ Зенон, живший в V в. до н. э., для аргументации такой позиции приводил следующий пример. Если мы бросим на землю одно зерно, то не воспримем звука его падения, а если бросим мешок зерна, то услышим шум; разум же утверждает, что либо и одно зерно производит шум, либо мешок зерна не производит его; иначе получилось бы, что сумма нулей равна некоторой положительной величине. Это и означает, по мнению Зенона, что в наших суждениях надо основываться не на чувствах, а на разуме. В пользу данного положения он приводил и другие аргументы, которые известны как апории Зенона – например, «Ахиллес и черепаха», «Стрела» и др[14].
Объясняя возникновение человеческого знания, рационалисты нередко говорили о наличии у человека так называемых врожденных идей. Такова, например, позиция философа-идеалиста Лейбница. Образу чистой доски Локка он противопоставил образ глыбы мрамора, прожилки которой расположены таким образом, что намечают фигуру будущей статуи. К формуле сенсуализма «Нет ничего в интеллекте, чего бы не было в чувстве» Лейбниц вносит рационалистическое добавление: «Кроме самого интеллекта». Чувственность, по его мнению, лишь толчок для деятельности врожденных человеку идей.
Кто же прав в этом споре: сенсуалисты или рационалисты? По-видимому, таким образом вообще нельзя ставить данный вопрос. Важную роль в познании играют и органы чувств, и мышление, выполняя там важные функции.
Может ли человеческое познание обходиться одним мышлением? Нет, ведь мысли человека формируются на основе чувственного опыта, который является источником познания.
Но недостаточно и тех знаний, которые человек получает на основе форм чувственного познания. Мышление позволяет ему получить такую важную информацию, сведения о мире, которая не может быть получена с помощью органов чувств. Кроме того, мышление позволяет преодолеть многие недостатки, свойственные чувственному познанию.
– Те знания, которые человек получает на основе ощущений и восприятий, во многом зависят от состояния человека, его органов чувств, его отношения к воспринимаемому и т. д. С помощью мышления человек преодолевает эту ограниченность чувственного познания.
– Органы чувств позволяют получить знания лишь о внешних, чувственно воспринимаемых свойствах вещей. Благодаря мышлению – на основе умозаключений – человек получает возможность познавать такие явления стороны, которые скрыты от глаз и других органов чувств – чувственно невоспринимаемые свойства вещей.
– И, пожалуй, самое важное значение мышления в процессе познания состоит в том, что с помощью мыслительных средств (абстракций, умозаключений и др.) удается познавать необходимые связи и зависимости, формулировать научные законы, без которых невозможно объяснение и предвидение наблюдаемых явлений.
Значит, чувственное и рациональное – две важные формы познания действительности тесно связаны между собой и дополняют друг друга.
На основе этого положения решается и спор сенсуалистов с рационалистами. Рационалисты правы, утверждая могущество человеческого разума, но допускают ошибку, утверждая независимость мышления от чувственного опыта. Сенсуализм ограничен в том, что недооценивает активность и роль мышления в познании, хотя и прав, заявляя о чувственном происхождении всех знаний.
Итак, выше охарактеризованы особенности и структура познавательной деятельности. Для науки характерна особая форма этой деятельности – научное познание.
1.2. Обыденно-практическое и научное познание
Характеризующая науку особая форма познавательной деятельности отличается от других форм познания человека, в том числе от обыденно-практического познания, которое является исторически первоначальной формой человеческого познания и одной из разновидностей познания на современном этапе развития общества.
1.2.1. Обыденно-практическое познание
Обыденно-практическое познание – стихийно осуществляемый (а не специально организуемый) познавательный процесс в повседневной жизни, в тех или иных видах практической деятельности (трудовой, спортивной и т. д.).
Следует отметить и другие важные особенности этого познания.
• Оно направлено на получение знаний о тех явлениях, их свойствах и связях, с которыми люди непосредственно сталкиваются в своей практической деятельности и в повседневной жизни.
• Для получения этих знаний не разрабатываются и не используются какие-то специальные методы. В качестве средств получения знаний используются обычные органы чувств и интеллект.
• Результаты познания формулируются в виде характеристики определенных свойств предметов (например, плавится или не плавится, горячий или холодный и т. п.) и рецептурных правил (рекомендации о том, что и как можно делать с теми или иными предметами, чтобы достичь желаемого результата), которые фиксируются в обычном языке.
• Такую познавательную деятельность осуществляют практически обычные, а не специально подготовленные люди.
Обыденное познание позволяет получить многие практически значимые знания. Но знания, получаемые в обыденной жизни, являются весьма несовершенными. Как правило, они ограничены тем кругом явлений, с которыми человек имел дело в своем повседневном опыте, и представляют собой совокупность разрозненных знаний об этих явлениях. Кроме того, нередко эти знания принимаются без должного обоснования их истинности.
Именно поэтому на определенном этапе развития познавательной деятельности возникает научное познание.