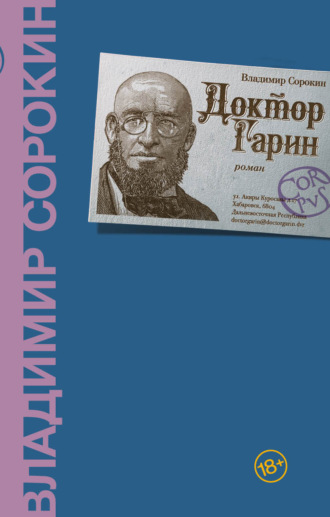
Владимир Сорокин
Доктор Гарин
Гарин пролистнул текст дальше.
И вот, вот, вот, наконец, началось!
Взмывает вверх ало-золотистый занавес, сияют прожектора, и Джонни Уранофф, долгожданный в Одессе Джонни, своей неповторимой, ни на что не похожей пробежкой-походкой-танцем выкатывается на сцену. В узких белых брюках, в голубых остроносых ботинках, в цветастой гавайской рубашке навыпуск, с кудрявыми, непослушными волосами цвета спелой пшеницы, с загорелым, улыбающимся, белозубым лицом, ах, что же это за лицо! Узкие скулы, мужественный, упрямый в своей решительности подбородок, чувственные губы, нос с благородной горбинкой, густые, тёмные в отличие от волос, брови и глубоко-синие, морского тона глаза, с вызовом, с добротой и надеждой смотрящие в зал.
А что творится в зале Одесского оперного театра! Публика вскакивает с мест, кричит и хлопает. Партийные чиновники, военные гарнизона, работники органов госбезопасности, новые нэпманы, кооператоры, рыбаки и портовые биндюжники, блатные и интеллигенты, тёти с Привоза и дяди со Староконной барахолки – все приветствуют Джонни, неистового в своём искреннем и добром желании покорить после Москвы и Ленинграда теперь и Одессу-маму.
– Джони-и-и-и-и-и!!! – раздаётся всеобщий крик.
– Ура, Уранофф!! – кричит молодёжная галёрка.
И в ответ – грохот джаз-рок-банда, привезённого Джонни из далёкого Канзаса.
Все свои концерты в СССР очаровательный, мужественный, искристый в своей подкупающей непосредственности Джонни начинал неизменно песней “Hit The Road Jack”. Одесса – не исключение. Звонкий, глубокий и сильный голос звучит со сцены, с первых же тактов покоряя зал. Джонни пританцовывает в своей неповторимой манере, легко и изящно, очаровывая сидящих в зале женщин, сразу захлопавших в такт. Финал тонет в овации и криках. Но не успевают прогреметь последние аккорды песни, уже ставшей благодаря неистовому Джонни хитом в СССР, как он с ходу начинает другой хит, жгучий номер, уже по-русски – “Огненная Лола”.
Где огонь твоих волос,
Опаливший сердце мне?
Тебя встретить довелось
Не в далёкой стороне.
Песня чарующими океанскими волнами катится по залу, накрывая, подбрасывая и качая. И зал раскачивается в такт. Джонни двигается гипнотически, как сомнамбула, словно балансирует на гребне грозной волны. Финал охватывает всех поглощающим приливом, женщины вскидывают руки, утопая в невыразимой нежности, – они готовы, готовы утонуть вместе с Джонни, уйти на дно русско-цыганского океана! Но он, неистово-красивый, начинает уже другую песню, “Sweet Little Sixteen”, и вслед за плавным приливом на зал обрушивается настоящий водопад. Молодёжь вскакивает с мест, танцует ставший уже модным в бериевском СССР, зажигательный в своей молодёжной безшабашности рок-н-ролл. За быстрыми синкопами – неторопливая, чувственная мелодия на русские слова: “Я спешу к тебе”.
Я немного подшофе, я летел из Санта-Фе,
Где с друзьями выпивал за нас с тобой.
Белокаменной Москвой по вечерней мостовой
Я спешу к тебе навстречу, сам не свой.
Казалось, время остановилось в Одесском оперном театре. Джонни привёз с собой чудо-остров, омываемый океаном любви с кущами нежности, гротами тайной влюблённости, водопадами безумно-мучительного наслаждения и непотухающим вулканом огнедышащих страстей. “Devil In Her Heart”, “Уноси нас, тройка!”, “Love Me Tender”, “Не целуй меня ночью белою”, “Rock and Roll Music”, “Выпьем водки, кореша!”, “Johnny B. Goode”, “Утонуть в твоих очах мне уготовано”, “Roll Over Beethhoven” – и вдруг неожиданно, широко и мощно вступает симфонический оркестр, и первые такты ставшей народной, любимой всеми песни заставляют зал встать, а Джонни спокойно и торжественно запевает, положив правую руку на грудь:
Суровой чести верный рыцарь,
Народом Берия любим.
Отчизна славная гордится
Бесстрашным маршалом своим[14].
Советские люди прекрасно знают эту песню, ставшую гимном великому человеку, совершившему неповторимый и беспрецедентный в своём прогрессивном размахе поворот в истории Страны Советов. Несравненный в своей мудрости и проницательной последовательности, Лаврентий Берия не только продолжил дело великого Ленина, обновив руководство КПСС, начав Новый НЭП, но и вывел СССР на новую идеологическую орбиту, гениально соединив социализм с православием и новой экономической политикой, что привело к поистине небывалому расцвету страны, доказавшей всему миру свою
Гарин зевнул и пролистнул текст.
Часы на Театральной площади показали двадцать три минуты первого, молодой, очаровательно тонкий месяц снова выплыл из-за угрожающе рваных туч, и Ляля снова, снова, снова, снова уже в четвёртый раз взмолилась, обращаясь к нему:
– О ночное светило, покровитель любовников и поэтов, фей и русалок, филинов и летучих мышей, помоги же мне в благородном и высоком деле моём!
И словно по столь необходимому в такие мгновения волшебству, двери шикарного, лучшего в Одессе ресторана “У Дюка”, выходящие на полуночную, призрачно-серебристую площадь, распахнулись, возник пчелиный шум голосов, засуетилась суровая охрана, подкатил роскошный розовый кадиллак с изумительными плавниками, шофёр выскочил, слаломоподобно обежал длинную машину, ловко открыл дверцу, сгибаясь в холуйском полупоклоне. И тут же пёстрая, жадная женская стая кинулась-метнулась к кадиллаку из сквера и переулков:
– Джо-о-о-о-онни-и-и-и-и!!!
Но охрана даром хлеб не ела. Кольцо богатырей в чёрных костюмах, разведя чёрные руки, стальными надолбами выросло на пути стаи. И пёстрой уличной кошкой она застряла в них. Визги, мольбы и крики, мелькание букетов и женских сумочек, плевки и проклятия. Ляле ужжжжасно хотелось броситься к розовой кадиллачной прелести вместе со всеми, но она взяла себя за острые локти, дрожа коленками, медленно-напряжённо подошла:
– Спокойно, Марго, спокойно…
Её сердце, сладко измочаленное концертом и ожиданием, забилось оглушительно. В ушах ещё продолжало, продолжало, продолжало звенеть.
И вдруг! Сквозь трепыхающуюся на чёрных надолбах кошку-толпу она увидела ЕГО. Богоподобный Джонни выходил из ревущего ресторана, поддерживаемый под руки слева полноватой, задастой женой секретаря горкома партии, справа – худой и вызывающе длинноногой женой мэра. Обнявшиеся и пьяные секретарь и мэр выкатывались, выкатывались следом. В джинсах и распахнутой на груди модной белой рубашке без ворота несравненный Джонни пьяновато-элегантно покачивался на женских руках. Обе женщины вели его, как сокровище сокровищ.
– А вот и лучшие девушки вашего города?
– Джонни, мы вас не отдадим!
– Джонни, я тебя не отдам н-никому! – Пьяная жена мэра уже дважды выпила с ним на брудершафт.
– Ну леди, это что… матриархат?
– Мат-т-триархат, да!
Из смертельно раненной кошки-стаи в Джонни полетели букетики. Вопли зазвенели. Но охрана стояла насмерть.
– Джонни, ты готов на рас-тэр-зание? – захохотал секретарь горкома, молодой, черноволосый, носатый Гоглидзе.
– Владимир Сергеич, в вашем городе я готов на всё.
– Во-вва, не дури! – Вся в золоте-бриллиантах, блондинка-жена секретаря ещё крепче приобняла-обхватила звезду.
– Вася, мы едем к нам! Не-ммедленно! – топнула алой остроносой туфлей длинная жена мэра.
Мэр города Прокопенко, коренастый, животастый, губастый, щегольнул плохим английским:
– With pleasure, honey!
– Друзья дорогие, увы, я не смогу. – Джонни вскинул загорелые красивые руки. – Пощадите, Христа ради! Нам завтра лететь у Киïв…
– Перенесём! И концерт!
– Вова, звони Козлову! Пусть переносит!
– Well that… goddamn…that's really… truly not possible, no matter how fuggin' sore I am about it… – Джонни соскользнул на свой канзасский.
– In my Odessa everything is possible! – Мэр поднял толстый-короткий палец.
Но вмешался пьяновато-взъерошенный антрепренёр Анатоль:
– Дамы, товарищи, господа, умоляю вас пощадить артиста! Нам лететь завтра, и завтра же концерт в Киеве, это ответственно, это серьёзно, очень серьёзно!
– И слушать н-не хочу! – Жена резиновой каланчой повисла на Джонни, оплела длинными загорелыми руками, залезая под рубашку.
Но Гоголидзе вмешался:
– Дамы, отпускаем дорогого! Он вернётся.
– Я вернусь зимой.
– С новой программой! – затрясся антрепренёр.
– Н-н-е отпустим!
– Не отпусти-и-м!!
– Ша! – Гоглидзе сделал грозно-решительный кавказский жест рукой. – Артисту нужен отдых, да? Он так сегодня спел, слушай, да?
– Нужен, нужен… – закивал-застонал антрепренёр.
– Нужен! Слегка… – тряхнул золотистыми волосами Джонни и устало рассмеялся.
– Нет, нет, нет! – тискали его дамы.
– Я вернусь… вернусь… – Джонни с улыбкой стал очаровательно выворачиваться из цепких женских рук.
Женщины пьяно и мокро зацеловывали его. Гоглидзе и антрепренёр помогли оторвать их от Джонни. С облегчением он шагнул к распахнутой дверце кадиллака. И тут Ляля рванулась через издыхающую, обессилевшую стаю и чёрные надолбы.
– Ку-у-уда?! – Две железные руки клещами цапнули её.
Рванулась!
Из последних сил.
В одной клешне оставила кусок зелёной блузки, в другой – половину серо-шёлковой юбки. И оказалась перед Джонни. И увидела его тёмно-синие глаза. И золото волос. И вдохнула его запах, запах, запах.
– Джонни, прошу прощения, – выдохнула она из себя воздух, словно перед смертью, прижала худые, тонкие, красивые руки к груди.
– Да, девушка? – Влажные нежно-мужественные губы его устало разошлись.
– Я женщина, – быстро ответила она, борясь, борясь с дрожью в голосе.
– Прекрасно! – рассмеялся он.
– Нам переходят д-дорогу?! – Жена мэра жёстко уперлась длинными руками в узкие бёдра.
– Эй, барышня, вы кто и откуда? – повёл-погрозил густыми бровями Гоглидзе.
– Я не партийка, не нэпманша, не торговка с Привоза и не сы-чи с пляжным косячком, – быстро заговорила Ляля, устремившись гиперболоидами своих зелёных глаз в синие озёра глаз Джонни. – Я поэт. И очень хотела бы поговорить с музыкантом.
– Поэт? – пробормотал Джонни.
Но клешни охраны схватили её, подняли-подвесили над недавно хорошо вымытым асфальтом.
– Прошу вас! – зло воскликнула она на весу.
– Подождите, – бросил он охранникам.
Лялю опустили.
– И о чём же вы… – начал он, но потно-пьяные руки жён хозяев Одессы снова с похотливо-несбыточным воем потянулись к нему.
– Поехали! – Он легко, сильно и чрезвычайно приятно схватил Лялю за плечи, одно из которых торчало в прорехе, и почти вбросил в машину, словно в топку локомотива. – До свидания, товарищи!
Антрепренёр, трясясь, брызжа слюной, раскланиваясь, сел вперёд, к водителю.
Джонни пьяно-очаровательно-проворно влез сам, столкнувшись, сплетаясь с Лялей.
И снова – его золотые волосы. И запах. Запах!
Двери захлопнули.
– Джонни, возвращайся!! – завыли-заревели снаружи потные тела.
– Я вернусь, – выдохнул он в лицо Ляли.
Отстранился. И понял, что она красива.
– Жми! – крикнул-взвизгнул антрепренёр водителю. Хищно-розовый кадиллак рванулся с места.
Мягкий, переливчатый гонг поплыл по коридору, приглашая всех обитателей санатория на ланч.
– Ага… – Гарин закрыл текст.
Встал. Потянулся. Повернул голову на крепкой шее влево до предела, постоял, разглядывая карту Алтайской Республики на стене. Повернул голову до предела вправо. И в который раз увидел сосновый бор, залитый полуденным солнцем. Задрал голову вверх. На потолке висела плоская матовая люстра. Опустил голову вниз. На левом ботинке был кусочек папиросного пепла.
Гарин глубоко вздохнул, развёл руки. Постоял, задержав дыхание. И шумно выдохнул, обнимая невидимый мир руками, прижимая к своей широкой груди.
– Обед, не наделай синих бед, – традиционно произнёс он, топнул левой ногой, огладил бороду, поправил халат и зашагал из кабинета.
В широкой, просторной, залитой солнцем столовой стояли лишь два огромных овальных стола. Синий стол предназначался пациентам, за красным обедали врачи, медсёстры и санитары. Две подавальщицы развозили еду на тележках. Гарин прошёлся по зданию, как он любил делать перед ланчем, и вошёл в столовую, когда уже почти все сидели на своих местах. Кивнув обедающим, он уселся за красным столом между сестрой-секретаршей Машей и Штерном, налил себе стакан горной воды и с удовольствием опустошил его.
Маша ела салат, доктор Штерн – суп-пюре.
– Bon app é tit! – громко пожелал им Гарин, заправляя за ворот салфетку и расправляя на ней бороду.
Обедающие ответили ему тем же.
– И как? – Он навёл пенсне на суп.
– Вполне, – вытянул губу тот. – Спаржа, картофель, лук-порей.
– Платон Ильич, – заговорила Маша. – Борис отказался от укола. Мы не стали принуждать.
– Правильно. Я уговорю его.
Он оглядел синий стол. Сильвио и Владимир, как всегда, сидели рядом, Синдзо, Эммануэль и Джастин сели вместе, Ангела неторопливо вползала в зал, обмахиваясь чёрным японским веером, Дональд сидел отдельно, поигрывая большой пустой чашей, готовясь к своему mixy-wixy. Бориса ещё не было.
К Гарину подъехала подавальщица.
– Супчика! – улыбнулся ей он.
– Прошу вас. – Она подала суп.
– Что слышно с фронта? – спросил Гарин, взял ржаную булку, сразу откусил половину и стал громко хлебать суп.
Он ел, как и ходил, размашисто и широко.
– Всё по-старому, – ответил Штерн.
– Не совсем. – Маша с привычным высокомерием разглядывала поедаемый салат. – Артобстрел ночью. Двенадцать убитых.
– В пределах границы, – пожал плечом Штерн. – Это тянется второй месяц.
– Артобстрел был интенсивный.
– Окопная война…
– Интенсивность ночных обстрелов растёт.
– Рутина…
– Может легко обернуться антирутиной.
– Маша, мы это обсуждали не раз. У республики крепкая армия.
– Как сказать…
– Они профи. И им хорошо платят.
– Есть времена, когда деньги бессильны.
– У нас они ещё не наступили, – возразила Пак.
– Ой ли? – презрительно усмехнулась Маша.
Штерн с обидой качнул головой:
– Маша, какая же у вас удивительная способность портить аппетит.
– Андрей Сергеевич, это всего лишь self.
Гарин моментально расправился с супом, отодвинул тарелку. В столовую вкатился Борис.
– Почему я никогда не слышу гонга?! – завопил он на всю столовую.
– Потому что у тебя остывший поридж в ушах! – выкрикнул Дональд и надолго расхохотался.
Не обращая внимания на хохочущего Дональда, Борис подкатился к свободному стулу подальше от всех. Подпрыгнул на ягодицах, сел, шлёпнул ладонями по столу:
– Мяса!
Подавальщица подвезла тележку, поставила перед Борисом накрытую крышкой тарелку, сняла крышку. Всю тарелку занимал большой стейк.
– Горчицы!
Подавальщица поставила перед ним плошку с его горчицей. Он моментально вывалил горчицу на мясо, размазал ножом, схватил вилку и стал кромсать и есть стейк. Отхохотавшись, Дональд нетерпеливо забарабанил кулаками по столу. Вторая подавальщица подвезла ему литровый стакан кока-колы со льдом, порцию жареных куриных крылышек с картошкой и кукурузой и облитое жидким шоколадом мороженое. Он вывалил в чашу крылышки, мороженое, залил всё кока-колой, схватил ложку и стал громко перемешивать. Закончив, отшвырнул ложку, сцепил руки, прочитал благодарственную молитву, взял чистую ложку и принялся жадно хлебать из чаши.
– Вот аппетиту кого надо завидовать! – с улыбкой произнёс Сильвио, обращаясь к Владимиру.
– Это не я, – ответно улыбнулся тот.
Сильвио подали его неизменные спагетти bianca, Владимиру – гречневую кашу с жареными грибами. Эммануэль что-то вполголоса сказал Синдзо и Джастину, и все трое рассмеялись.
– Не нахожу ничего смешного! – заметил Борис, кромсая стейк.
– Борис, мы обсуждаем последствия Договора Малой Жопы.
– Мы же договорились о политике говорить только за ужином, – строго заметила Ангела.
– Ангела, мы не о самом договоре, а о последствиях, – улыбнулся Эммануэль. – Никакой политики!
– Переселение народов?
– Именно! Разве это политика?
– Владимир, как у вас сейчас с переселением народов? – рассмеялся Сильвио.
– Это не я, – жуя, пробормотал тот.
– Только дурак может над этим смеяться! Это трагедия! – выкрикнул Борис и, отбросив нож и вилку, схватился за лицо и разрыдался. – Иди…оты…
Эммануэль, Синдзо и Джастин переглянулись.
– Борис, мы смеялись вовсе не над переселением, – заговорил Эммануэль. – А над меню торжественного ужина того эпохального дня, когда в Страсбурге был подписан Договор Малой Жопы.
– Я помню тот ужин, – осторожно ела суп Ангела. – Что же там было смешного?
– Помнишь ли ты десерт?
– Ну… был какой-то огромный торт.
– Да, торт! А что украшало этот торт?
– Что-то не припоминаю…
– На торте стояли совокупляющиеся бронтозавр и тираннозавр. Причём бронтозавр оприходовал тираннозавра!
– Что-то не помню…
– Точно! – воскликнул Сильвио. – Я помню прекрасно! Бронтозавр из белого шоколада, а тираннозавр из чёрного! Бронтозавр вставил тираннозавру! А, Владимир?
– Это не я.
– Да! Да! Да! – завопил вдруг Борис и расхохотался. – Помню! Сладкие фигурки!
– Символы победы демократии над тёмными силами, – подсказал Эммануэль.
– Благие намерения, – грустно кивал Синдзо, жуя рис.
– Динозаврики! – замахал вилкой и ножом Борис. – Мои любимые! Я тогда отломал тираннозавру голову и угостил свою подружку! Скоро у меня будет свой парк Юрского периода! Всех вас приглашу! Хотя нет… не всех.
Он показал язык Дональду, хлебавшему свой mixy-wixy.
– Ваш Договор Малой Жопы, который потом в Брюсселе торжественно обозвали Квадратной Жопой, не стоит и выеденного яйца, – забормотал, не переставая неряшливо есть, Дональд. – Это не просто ошибка, а преступление.
– Дональд, ты уже говорил об этом, – мягко возразил Эммануэль.
– И ещё раз повторю.
– Это уже скучно, Дональд, – усмехнулась Ангела, намазывая масло на хлеб.
– В Брюсселе этому бездарному договору поставили памятник! Немыслимо! – зло усмехнулся Дональд. – Какой-то бездарный скульптор отлил из бронзы бездарную квадратную жопу! Великий договор, изменивший Европу к лучшему! Великая Квадратная Жопа! Смешно! Надо было просто отлить плоскую жопу. Из свинца. Положить перед Европарламентом, чтобы все ходили по ней и вспоминали, что вы сделали тогда.
– Дональд, ты несёшь чушь.
– Чушь, чушь, Дональд.
– Наш договор изменил не только Европу, но и весь мир.
– Мы все изменились.
– Что, в лучшую сторону?! – зло воскликнул Дональд, брызжа едой. – Плоская, плоская жопа! Вот что тогда стало с миром!
– Mamma mia! Он против Малой Жопы! – воскликнул Сильвио, словно впервые услышал это название. – Ты слышишь, Владимир?!
– Это не я.
– Дональд, до Квадратной Жопы тебе с твоим убогим апрельским указом было как до Луны. – Ангела отправила бутерброд в широкий напомаженный рот.
– Он тогда нравственно отстал, а теперь не может нам это простить! – рассмеялся Эммануэль.
– Доктор Гарин, как это называется в психиатрии? – громко спросила Ангела.
– Не ссорьтесь, господа, не ссорьтесь! – тряхнул бородой Платон Ильич. – Пищу надобно принимать спокойно.
– Не ссорьтесь! – с улыбкой обратилась Пак к синему столу. – Смотрите, какое сегодня вкусное и разнообразное меню!
– Я – нравственно отстал? – усмехнулся Дональд. – Джастин, ты слышал, дружище? Синдзо-сан? Мой указ от 23 апреля, если отливать его в бронзе, это не Плоская и не Квадратная, а Кубическая Жопа! Или даже – Жопа Гиперкубикус! Жопа Вектор! Ей нужно ставить памятники на всех континентах! Я спас тогда мир, который вы своей Квадратной Жопой поставили на грань катастрофы! И приползли потом ко мне за помощью!
– Дональд, ты преувеличиваешь!
– Всё наоборот! Ровно наоборот!
– Я – приполз к тебе? – куртуазно рассмеялся Эммануэль. – Не смеши, Дональд!
– Не смеши нас, Дональд. – Ангела принялась за жареную свинину с кислой капустой.
– Смешит, смешит нас старик Дональд, а, Владимир? – ловко наматывая спагетти на вилку, Сильвио толкнул соседа в бок.
– Это не я, – спокойно ел кашу Владимир.
– Кто тебе дал право смешить? – зло выкрикнул Борис.
– Дональд, твой указ от 23 апреля был своевременным, – заговорил Джастин. – Но всё же он несопоставим с Квадратной Жопой.
– И ты туда же! – взмахнул руками Дональд. – Мой указ сияет над миром новой планетой! Мир живёт по нему до сих пор! По нему, а не по вашей Квадратной Жопе!
– Господи, как я устала от этого… – сморщилась Ангела.
– Дональд, смени тему!
– Зачем обсуждать то, что уже не вернёшь? Невозможно срубить поваленное дерево.
– Вы правы, Синдзо-сан…
– Дональд, ты нас утомляешь!
– Кто тебе дал право утомлять? – выкрикнул Борис и швырнул в Дональда куском мяса.
– Так. Внимание… – Гарин взглянул на обедающих санитаров.
Дожёвывая, они стали быстро вытирать рты салфетками.
Не обращая внимания на Бориса, Дональд резко отодвинул свою чашу, влез на стол, прополз до середины, легко перевернулся на голову и стал крутиться на месте, показывая всем свою белую, усыпанную рыжими веснушками задницу:
– Вот вам Жопа Гиперкубикус! Любуйтесь!
Борис схватил плошку из-под горчицы и запустил в Дональда. Тот продолжал вертеться и победоносно кричать. Борис стал метать в него всё, до чего мог дотянуться, – вилку, нож, тарелку, солонку, перечницу.
– Кэйхо!! – вдруг грозно-пронзительно закричал Синдзо.
Санитары вскочили со своих мест.
– Коктейль № 3! – распорядилась доктор Пак.
Сёстры тоже вскочили.
– Обоим! – скорректировал Гарин и спокойно показал мизинцем на блюдо с тушёными овощами.
– Вот и наша антирутина началась… – Маша принялась накладывать ему овощи.
Кофе и десерт были поданы в кабинет Гарина. Пак и Штерн сидели в креслах с чашками в руках. Гарин курил и громко прихлёбывал чёрный кофе за своим столом.
– И всё-таки удивительно: почему именно на ланче? – Пак смотрела на кедровый бор за окном. – По всем законам, пик подобного эксцесса – вечернее время.
– Доктор, у нас великолепная восьмёрка. – Штерн потянулся нижней губой к краю своей чашки. – Синусоиды их психосомы смещаются непредсказуемо. Потому что пациенты взаимоиндуцируют друг друга.
– Они единый организм. – Гарин, как паровоз, шумно выпустил мощную струю дыма. – Мы обсуждали это не раз.
– Шизоиндукция. – Пак кивнула своей аккуратной мальчишеской головой.
– Шизоиндукция! – откинулся в кресле Гарин.
– Мне кажется, в данном случае это не совсем корректный термин, – мучительно поморщился Штерн.
– Отчего же?
– Шизоиндуктивность характерна для разобщённых субъектов. Один встречает другого или нескольких, индуцирует, заражая своей синдроматикой. И заражает потому, что сверхценная идея абсолютно сверхнова для заражаемого, она потрясает и овладевает им. Здесь же никто из них не способен потрясти, заразить другого или всех чем-то новым. Для них нет нового, как вектора.
– Они слишком хорошо знают друг друга! – согласилась Пак. – Слишком психосоматически притёрлись.
– Десятилетия! – кивнул Гарин. – Они не индуцируют, а провоцируют друг друга.
– Тогда это не шизоиндукция, а резонансная шизофрения.
– Возможно. Есть один нюанс. – Гарин привычно забарабанил по столу тяжёлыми пальцами. – Вы сказали, доктор, что пациенты не способны потрясти друг друга новым. Верно. Но они потрясают друг друга старым!
– Конечно! – Пак встала, хлопнула в маленькие ладоши. – Конечно! Новое для них возможно только в прошлом. Как неиспользованная возможность.
– Или как невозможное использование, – заключил Штерн.
– Нового в реальном мире для них нет и быть не может.
– Быть не должно! – барабанил пальцами Гарин.
– Быть не должно. Остаётся только провокация как ревизия прошлого.
– Они используют прошлое как бесконечный шизоисточник взаимопровокаций. Дипсомания, гиперкинез, шперрунги, ангедония – лишь оболочка синдрома.
– Для них прошлое – мешок без дна, – угрожающе произнёс Гарин, гася окурок.
– Exactly! – хлопнула в ладоши Пак. – Тот самый мешок из “Тысячи и одной ночи”, в котором и спрятан весь мир. Спасибо, доктор! Хотите, я сделаю вам массаж?
– Хочу! – Гарин оттолкнулся ногами от пола, выкатился на кресле из-за стола.
Пак подошла сзади и стала массировать ему шею и плечи.
– Нам надо рассматривать их только как единый организм, – заговорил Гарин, щурясь на солнце. – Тогда мы добьёмся успеха.
– Но они ведь никогда не жили вместе. – Допив кофе, Штерн встал и заходил по кабинету. – Они не ощущают родства.
– Они вместе управляли миром.
– Это больше, чем жить вместе. – Пак с силой мяла могучие плечи главврача. – И это сильнее, чем родство.
– Мешок без дна… – задумчиво повторил Гарин, оглаживая бороду. – И мы для них тоже в этом мешке. Наша задача – вылезти из мешка. И стать тем судьёй, который приказал открыть мешок.
– Признаться, я подзабыл… что же оказалось в том мешке? – спросил Штерн, подходя к окну и осторожно трогая стекло кончиками длинных пальцев.
– Хлеб, сыр, маслины и лимон.
– Всё, что нужно для странствующего! – засмеялась Пак.
– Или для заключённого, – сурово заметил Гарин. – В нашем случае вместо хлеба у них бред особой миссии.
– А вместо сыра – ипохондрический гигантизм.
– Вместо маслин… – Штерн почесал бровь холёным ногтём. – Пожалуй, бред ущерба.
– Тогда на лимон остаются только анально-сексуальные сенсации!
Гарин положил одну титановую ногу на другую:
– Коллеги, я чрезвычайно рад, что у великолепной восьмёрки нет прогрессирующей шизофазии. Свои мысли они выражают ясно, даже Дональд и Борис.
– А Владимир?
– Он стабилен. И адекватен.
– Пока, во всяком случае… – пожал узким плечом Штерн, постукивая по стеклу.
– И ваши коктейли, доктор, тому порука! – Гарин поймал маленькую руку Пак и быстро поцеловал её. – Вы не представляете, как мучительно работать с шизофазией.
– О, представляю! – воскликнула Пак. – Но с вами мы преодолеем всё.
Штерн улыбнулся:
– Как часто повторяет наша Ангела: wir schaffen das[15].
После общения с коллегами, накинув на плечи альпийскую войлочную куртку с вышитыми дубовыми листьями на замшевых отворотах, Гарин решил прогуляться по территории санатория, как он делал всегда после ланча. С западной стороны к санаторию примыкал обширный парк с газонами, где помимо сосен и пихт росли дубы, липы, каштаны, а над небольшим искусственным прудом склонялись декоративные ивы. Гарин прошёлся по замощённым дорожкам, встретив Ангелу и Синдзо, двух медсестёр и старого садовника. Проходя мимо ограды, он заметил за её стальными прутьями невысокого человека. При виде Гарина тот подошёл ближе и приподнял шляпу, обнажив лысую голову.
– Простите великодушно! – обратился он к Гарину.
Платон Ильич остановился.
– Кузьмичёв Кузьма Иванович, – представился незнакомец, держа шляпу у груди.
Гарин различил, что человек одет скромно, но аккуратно; за спиной его висел рюкзак.
– Что вам угодно? – спросил Гарин.
– Тараканы, клопы, блохи, вши, мокрицы, – быстро произнёс человек.
Круглое лицо его с картофелиной носа украшала маленькая клякса усов.
– И что… клопы, блохи? Беспокоят вас? – не понял Гарин.
– Вывожу. Экологически чистыми и исключительно народными средствами.
– Ах, вот что.
С человеком была такса, дотянувшаяся до верха бетонного основания ограды и просунувшая узкую морду сквозь прутья.
– Признаться, тараканов у нас сроду не водилось, клопов тоже. Вши – да, были во время войны, но она уже, к счастью, закончилась. Блохи… мы не держим собак. Есть один кот, да и тот фараонский. Не в чем блохам заводиться.
Человек понимающе кивал круглой головой.
– А как насчёт мокриц? – спросил он.
– Не встречал, – честно признался Гарин.
– На кухне, в подвале или в душевых помещениях?
– Возможно… не знаю. Не нахожу вреда в мокрицах.
– О, как вы ошибаетесь! – Кузьмичёв прижал шляпу к груди. – Мокрицы – опаснейшие создания, разносчики всевозможных заболеваний. Если взглянуть в обычный мелкоскоп на мокрицу, она поразит вас своим агрессивным видом. Если же вы рискнёте взглянуть на неё в мелкоскоп электронный, вы можете надолго потерять душевное равновесие.
– В ближайшие годы я точно этого делать не стану. – Гарин достал папиросу.
Пока он закуривал, незнакомец выжидательно молчал.
– Я беру недорого. Но работаю исключительно чисто и профессионально.
– Право, не знаю… – пожал плечом Гарин. – Ну… ладно, ступайте на кухню. Сошлитесь на доктора Гарина.
– Благодарю вас! – радостно оживился человек, надел шляпу, поддёрнул таксу и направился к калитке.
Гарин достал свой клинообразный смартик FF40, позвонил роботу-вахтёру:
– Фёдор, пропусти человека с таксой и рюкзаком.
Неподалёку открылась калитка, Кузьмичёв вошёл. Такса семенила рядом. Под широкими брюками незнакомца виднелись забрызганные грязью резиновые сапоги.
– А такса помогает вам искать клопов и мокриц? – спросил Гарин.
– Нет, это просто друг.
– Ясно.
Платон Ильич двинулся дальше по парку, Кузьмичёв заспешил к санаторию. Дойдя до прудика, Гарин сел на любимую скамейку между двумя ивами, докурил папиросу, зевнул, снова достал FF40, открыл роман Воскова, стал читать.
– О чём же вы, женщина и поэт, хотите спросить музыканта? – Джонни очаровательно-пьяновато покачнулся, обнял пузатый, расписанный под хохлому холодильник, а потом и грубо открыл его.
Ляля одиноко и трогательно стояла посередине большого, шикарного номера с антикварной, покрытой позолотой мебелью.
– Что выпьем? – Он достал-вытянул из холодильника ледяную бутылку советского брюта.
– Не знаю… – Она мягко и жестоко взяла себя за локти.
– Советского шампанского?
– Да, можно…
С неловкой очаровательностью он открыл, проливая обильно на журнальный стол, мокро наполнил бокалы, взял, пошёл, пошёл к Ляле. Она стояла перед ним, держа себя за локти, словно жёстко останавливая, голое плечо торчало сквозь прореху.
– Как они вас порвали! – Пьяновато и как-то по-разбойничьи усмехнулся Джонни, протягивая ей бокал. – Вы решительная?
– Временами… – пробормотала она, принимая бокал непослушной красивой рукой.
Бокал задрожал несчастно, закапал на ковёр.
Джонни чокнулся и сразу жадно ополовинил свой, пошёл к дивану, устало сел-развалился с роскошной пьяной наглостью, закидывая остроносый ботинок на колено:
– Присаживайтесь. Как вас зовут?
– Ляля, – произнесла она, стараясь не уронить бокал и глядя на Джонни.
Возникла короткая грозная пауза.
– Что-то не так? – спросил он, приглядываясь.
– Нет, всё хорошо. Очень хорошо, – тяжко и страшно вздохнула она.
– В чём же дело?
– Дело в том, Джонни, что…
– Что?
– Что меня трясёт.
– Ах, вот оно что! – рассмеялся он расслабленно и шлёпнул рукой по дивану. – А вы садитесь поближе! И всё пройдёт.
В порванной юбке она подошла, подошла, подошла, еле переставляя красивые ноги.
Села.
Он придвинулся к ней, стал в упор, как пьяный нежный врач, разглядывать её лицо.
– Вы поэт.
– Да.
– Вы… красивая.
– Говорят.
Губы её дрогнули гримасой очаровательной жалости.
– Почему не пьёте?
Он чокнулся своим бокалом.
Она скосила зелёные глаза на свой дрожащий бокал, обхватила ладонями, чтобы не разлить, испугалась вмиг, что раздавит, и тут же выпила, выпила, выпила залпом желанное, игристое, ледяное вино.
– Great! – Он допил свой, отобрал у неё бокал, словно ёлочную игрушку у описавшейся девочки, поставил бокалы на пол.







