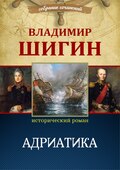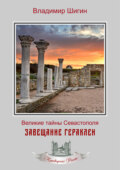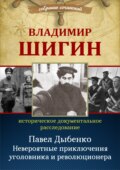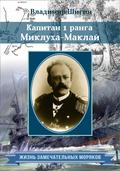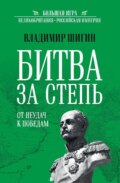Владимир Шигин
Отсеки в огне
Далее еще интереснее. Ни с того ни с сего Исаков посвящает целую страницу рассказа самому заурядному эпизоду – смене курса линкора «Марат». Казалось бы, ну и что, меняет курс линкор и пусть меняет. Мало ли раз он менял курс во время плавания, что об этом писать, дело ведь самое заурядное. Но Исаков почему-то подробно пишет о смене курса, и как пишет!
«…Поэт (Лахути. – В.Ш.) склонил голову и приложил руку к сердцу, но в этот момент заверещал телеграф с мостика и одновременно резко прозвучал в репродукторе доклад начальника походного штаба, обращавшегося к Наркому, возвращая всех из мира поэзии к реальной действительности. “Согласно утвержденному Вами плану ложимся на новый курс – 270 градусов. Походный порядок до наступления темноты остается без изменений”. Очевидно, одновременно с докладом начался поворот, так как палуба, стол и весь салон медленно стали крениться на левый борт. Иначе запели воздушные струи в решетках вентиляторных шахт, а после такого же плавного возвращения салона в нормальное положение не стало слышно ударов волны о кормовой подзор, так как теперь она догоняла корабль, очевидно, разбиваясь, раздробляясь в кипящем месиве кильватерной струи, вспененной четырьмя громадными гребными винтами. Я встал и спросил разрешения выйти и подняться на мостик…»
Перед нами не заурядный поворот линейного корабля, а целая поэма! И, что любопытно, это поворот именно на левый борт!
Что же происходит дальше? А вот что – поэт-террорист Лахути вдруг ни с того ни с сего начинает цитировать персидского средневекового поэта Эмира Хосрова:
Тонет терпения корабль…
Стой, капитан!
Есть у меня Господь,
Капитана не надо!..
Далее Исаков сообщает, что, покинув салон и поднимаясь на мостик, чтобы проверить курс корабля после левого поворота, он для себя переиначивает стихи средневекового поэта следующим образом:
Пусть тонет Ваш терпения корабль,
Но без капитана нельзя…
А Бога не надо…
Что здесь сказать? Исаков явно не случайно цитирует четверостишие Хосрова о ненадобности капитана. Причем капитана именно во время совершения поворота «Марата» влево. Разумеется, здесь весьма прозрачный намек на Ворошилова. Исаков намекает, что такого капитана тонущему кораблю действительно не надо, уж лучше предаться воле волн и Бога. От себя он добавляет, что нужен капитан настоящий, а не парадно-свадебный. Но почему Исаков облек воспоминания в столь иносказательную форму, ведь писал он свой рассказ не в расстрельном 1937 году, а в середине 60-х годов? Было ли чего бояться старому отставному адмиралу?
Оказывается, было! Ворошилов в это время занимал весьма немалый пост председателя Верховного Совета СССР, т. е. являлся фактически президентом государства. Разумеется, если бы Исаков написал всю правду о событиях на «Марате» и о злосчастном левом повороте никчемного капитана, а Ворошилов об этом узнал, Исакову бы не поздоровилось. Конечно, его бы не расстреляли, так как времена были уже не те, но то, что навсегда прекратили бы печатать и лишили бы каких-нибудь льгот, это уж точно. Зачем это было надо безногому инвалиду Исакову? Но написать о событиях на «Марате» ему, очевидно, все же очень хотелось. А потому пришлось прибегать к эзопову языку, менять дату плавания, акцентировать внимание на неком внезапном ночном повороте влево, на цитате персидского поэта и своей интерпретации этой цитаты. В то время были еще живы свидетели трагических событий 1935 года. Им и напоминал Исаков о давнем происшествии и о его виновнике…
Трагедия подводной лодки «Большевик» стала последней, о которой широко писалось в советской печати. Гибель субмарины с таким звучным именем вызвала много кривотолков, слухов и даже анекдотов, в которых якобинец Марат жестоко расправлялся с неким большевиком. Во избежание подобных ситуаций было принято решение о том, чтобы в дальнейшем катастрофы кораблей в печати не освещались и по возможности были окружены завесой секретности. Такой подход к трагедиям на море неуклонно выполнялся вплоть до гибели атомной подводной лодки «Комсомолец» в апреле 1989 года. Изменилась эпоха, а вместе с ней изменились и подходы к освещению происходящих в стране событий, в том числе и трагических.
Трагедия в Кольском заливе
К сожалению, в предвоенные годы трагедии не обошли стороной и молодой Северный флот. «Героями» очередной катастрофы стали подводная лодка Щ-424 и рыболовный траулер РТ-43 «Рыбец». Итогом катастрофы стала гибель подводной лодки и 32 подводников.
Средняя подводная лодка X серии Щ-424 вступила в строй в июле 1936 года и вошла в состав КБФ. В мае 1939 года лодка ушла по Беломоро-Балтийскому каналу из Ленинграда в Полярный и 21 июня 1939 года вошла в состав СФ. Водоизмещение Щ-424 составляло 603/721 тонн, длина 58,8 метра, ширина 6,2 метра, осадка 4 метра. Два дизеля по 1600 л. с. и два электромотора по 800 л. с. Скорость надводного хода 11,5 узла, подвод ная – 7,2 узла. Вооружение – 4 носовых торпедных аппарата и два в корме, 2 орудия по 45 мм.
Из воспоминаний ветерана Северного флота Н.Н. Козлова: «В то время (1939 год. – В.Ш.) наши лодки периодически несли позиционную службу у берегов Норвегии, подготовилась к такому походу и Щ-424. Внезапно заболел командир лодки, потребовалась его замена. С другого дивизиона, которым командовал будущий комбриг И. Колышкин, был выделен командир ремонтировавшейся Щ-401 Шуйский. Последний вначале отказывался выходить на незнакомой лодке, не зная ее состояния и уровня подготовленности личного состава. Однако приказ есть приказ, и 20 октября 1939 года он повел Щ-424 в ее последний поход».
Катастрофа произошла недалеко от входа в Кольский залив и носила навигационный характер. Щ-424 и возвращавшийся с лова рыболовный сейнер не смогли разойтись, как положено, левыми бортами. При этом почти сразу же было установлено, что команда «Рыбца» после удачного лова была изрядно навеселе. Сумбурно управляемый сейнер так опасно сманеврировал, что прижал лодку к берегу, а затем в снежном заряде и вовсе протаранил. Приличного водоизмещения судно на среднем ходу врезалось в борт лодки, пробив форштевнем прочный корпус. Находившегося на мостике командира Шуйского и троих вахтенных выбросило в море. Спустя несколько минут «щука» затонула вместе с остальным экипажем. Барахтавшихся в воде подводников подобрали очухавшиеся рыбаки.
Из материалов архивного фонда ЭПРОНа: «Щ-424 20 октября 1939 г., следуя на траверзе мыса Бакланный (Кольский залив. – В.Ш.) курсом норд, в результате столкновения с РТ затонула. Удар пришелся в районе отсека № 4. 10 человек были подобраны тральщиком, 32 человека остались в подводной лодке, которая затонула в 1–1,5 минуты. АСО СФ немедленно вышел для розыска и оказания помощи. Глубины в предполагаемом районе – от 150 до 280 м. Розыск производился по 31 октября тралением донным тралом и металлоискателем. Места задевов обследовались водолазами в мягком скафандре до глубины 100 м и водолазами в панцирном снаряде до 160 м. Всего обследована площадь около 6500 м². В точке задевов обнаружены камни, в точке 69°16′5′′ и 33°32′0′′ камни и бронированный кабель. В точке 69°17′4′′ и 33°32′4′′ на глубине 270 м неоднократные задевы тралом. Причем при задеве наблюдалось сильное выделение масляных пятен. В этом районе несколько дней после гибели подводной лодки держалось масляное пятно. В этой же точке был звонок металлоискателя. На обследованном в этом месте трале обнаружен налет бронзы. Пеленг на расстоянии данное сигнальщиком поста СНиС (остров Торос, пеленг 120, расстояние 20 каб.), совпадает с затраленной точкой. Исходя из вышеизложенного, место гибели ПЛ Щ-424: 69°17′4′ и 33°32′4′′».
Официальное расследование трагедии еще не было закончено, как начальник Мурманского НКВД уже 29 октября 1939 года отправил обстоятельную телеграмму на трех страницах Л. Берии. В телеграмме были изложены подробности маневрирования лодки перед столкновением с РТ-43, описываются ошибочные действия командира Шуйского, капитана тральщика Дружинина и находившегося на его борту военного лоцмана Соколова. В телеграмме сообщалось, что на этих людей запрошены компрометирующие материалы. Заканчивается телеграммный текст весьма характерно для того времени: «Работаем над выявлением возможной контрреволюционной деятельности Дружинина, Шуйского и Соколова и совершения ими потопления подводной лодки сознательно».
Из воспоминаний ветерана Северного флота Н.Н. Козлова: «Эту катастрофу тяжело переживали в бригаде. Военный трибунал признал виновными в гибели Щ-424 капитана траулера и командира К. Шуйского. Обоих приговорили к высшей мере наказания. Я хорошо знал Константина Матвеевича, было ему всего 32 года, жизнерадостный, общительный, он пользовался авторитетом среди подводников. Посоветовавшись в своем кругу, группа лодочных и штабных офицеров, в том числе и я, написали в защиту своего товарища коллективное письмо И.В. Сталину. Мы указали в своем ходатайстве на невиновность Шуйского в происшедшем столкновении, отметили слабое навигационное оборудование подходов к Кольскому заливу и его фарватеров. Время тогда было суровое, кое-кто отговаривал нас от такого поступка, пугая возможными карами. Письмо мы сделали с грифом “Совершенно секретно”, отпечатали в одном экземпляре адресату, в делопроизводстве остался только исходящий номер. О нашем поступке узнали в Политуправлении ВМФ, последовало указание флотским комиссарам разобраться, кто зачинщик, авторы и каково содержание письма».
Вскоре состоялся суд, который приговорил капитана траулера Дружинина и командира Щ-424 Шуйского к расстрелу, а лоцмана Соколова к шести годам лагерей. Однако вскоре по ходатайству подводников высшую меру Шуйскому заменили на 10 лет лагерей. Ветераны считают, что в спасении жизни Шуйского помогло то самое письмо, которое с риском для жизни сочинили и отправили его боевые товарищи.
К сожалению, этими трагическими событиями неприятности для Северного флота не закончились. Уже 13 ноября 1940 года в море пропала без вести подводная лодка Д-1, «Декабрист». После двух катастроф на Северный флот прибыл с проверкой только что назначенный наркомом ВМФ Н.Г. Кузнецов. Но едва он уехал, как новая беда. В начале лета 1940 года на торпедном складе в Мурманске произошли пожар и взрыв торпед с человеческими жертвами. Непрекращающаяся череда чрезвычайных происшествий привела к снятию с должности командующего флотом В.П. Дрозда. На его место в августе был назначен контр-адмирал А.Г. Головко.
Известный писатель-маринист подводник Сергей Ковалев считает: «Трагедии Щ-424 и Д-1 сказались и на неудачах наших подводников в первые месяцы Великой Отечественной войны. Дело в том, что из-за гибели подводных лодок командирам субмарин Северного флота было строжайше запрещено погружаться в районах, где глубина превышала рабочую глубину погружения их подводных лодок. Поскольку в Баренцевом море полигонов с такими глубинами просто не существовало, приходилось уходить для отработки задач в Белое море. Часто в Белое море не находишься, а потому погружались лодки весьма редко. Это, в свою очередь, самым негативным образом сказалось на подготовке командиров лодок и экипажей».
И все же почему с Шуйским поступили столь гуманно? Разумеется, решающую роль в спасении его жизни сыграло коллективное письмо, инициированное командирами-подводниками Иваном Колышкиным и Николаем Козловым. Вспомним, что шел 1939 год и смельчаков, кто бы писал такие письма Сталину, в стране были единицы. Отметим, что письмо при этом было коллективным, а значит, выражало точку зрения всего командного состава подплава Северного флота. Сталин был мудрым человеком и прекрасно понимал, что в обстановке уже начавшейся мировой войны производить массовые аресты комсостава североморского подплава ни в коем случае нельзя. Если же, наоборот, прислушаться к подводникам и заменить статью прогоревшему командиру, это значительно улучшит моральный климат среди подписантов. Люди успокоятся и будут больше думать о том, как победить, а не о том, что их вот-вот посадят. Заметим, что вопреки «традициям» 1937–1938 годов не был расстрелян за целую серию катастроф и командующий флотом Дрозд. Его даже не разжаловали, а просто назначили с понижением на Балтийский флот.
О том, что репрессии на флоте к этому времени сошли на нет и Сталин теперь, наоборот, старался сохранить оставшиеся командные кадры, говорит и похожий случай на Тихоокеанском флоте, произошедший в это же время. Там во время буксировки в шторм был посажен на камни и разбит волнами новейший эскадренный миноносец «Решительный». Ответственность за столь бездарную потерю новейшего эсминца несли двое: командующий флотом Н.Г. Кузнецов и командовавший буксировкой эсминца капитан 2-го ранга С.Г. Горшков. Вопреки всем ожиданиям Сталин и в этом случае обошелся без репрессий. Горшков был просто переведен с понижением на Черное море (в отличие от трагедии Щ-424 на «Решительном» не было погибших), а Кузнецов вскоре и вовсе назначен наркомом ВМФ. Но и в этом случае не последнюю роль в решении Сталина о наказании сыграл убедительный и аргументированный доклад Кузнецова – аналог письма Колышкина и Козлова.
Из воспоминаний ветерана Северного флота Н.Н. Козлова: «Виновным грозило самое суровое наказание. Однако через некоторое время пришла выписка из указа Председателя Президиума Верховного Совета М.И. Калинина: высшая мера виновникам катастрофы заменялась на десятилетний срок заключения. До этого командир Шуйский и капитан траулера просидели несколько десятков дней в камере смертников. Может быть, и сыграло положительную роль наше письмо вождю, не знаю, но оно явилось определенной проверкой порядочности командного состава подводников. Кстати, после указа отстали от нас и политотдельцы. С началом войны неожиданно К. Шуйский появился у нас на бригаде, его, как он сказал, “отпустили смывать преступление кровью”».
Однако отпустили Константина Матвеевича Шуйского не просто так. Все те же Колышкин, Козлов и другие с началом войны обратились к наркому ВМФ Кузнецову с просьбой вернуть опытного офицера-подводника на флот. Вслед за Шуйским переслали и его личное дело с многозначительным примечанием «с последующим отбытием срока заключения после войны». Впрочем, для того, чтобы исполнить это предписание, надо было еще остаться в живых.
Вначале Шуйского назначили старпомом подлодки К-3, которой командовал К. Малофеев. Командиром назначать его было нельзя, так как судимость еще не была снята. На К-3 Шуйский участвовал в четырех боевых походах, в которых были потоплены 2 транспорта и поврежден один корабль.
При этом судимость с Шуйского сняли только в 1942 году. Причиной к снятию послужили итоги знаменитого декабрьского боя в 1941 году К-3, которую вывел в море Магомет Гаджиев. Шуйский был в этом походе старпомом. Тогда подводная лодка потопила транспорт, подверглась преследованию, всплыла в надводное положение и расстреляла преследовавшие ее корабли охранения конвоя. В итоге орденами и медалями наградили весь экипаж, кроме одного человека – Шуйского: с него сняли судимость.
Вот как описывает события, которые изменили судьбу старпома К-3, историк Северного флота и писатель-маринист Сергей Ковалев: «19 февраля 1942 года подводная лодка Щ-403, которой командовал капитан-лейтенант Семен Коваленко, высадив на вражеский берег группу разведчиков, ночью в надводном положении выходила из Порсангер-фьорда. Внезапно она встретила немецкий отряд боевых кораблей в составе минного заградителя “Бруммер” и двух тральщиков, М-1502 и М-1503. На “щуке” вахтенный офицер, находившийся в рубке на командирском мостике, растерялся и вместо того, чтобы скомандовать: “Срочное погружение!”, пригласил командира на мостик. Коваленко, поднявшись из прочного корпуса наверх, мгновенно оценил обстановку: лодку обнаружили, а один из тральщиков уже пытается выйти на таран. Расстояние между ним и Щ-403 резко сокращается, и о погружении, даже самом срочном, уже не может быть и речи. Более того, по лодке вражеские корабли открыли ураганный артиллерийский и пулеметный огонь. Командир “щуки” дал команду приготовить кормовые торпедные аппараты к залпу. И аппараты приготовили к стрельбе. Но в тот момент, когда уже нужно было выстрелить по минному заградителю, команда на залп до кормового отсека почему-то не дошла. Однако лодка все равно уклонилась от таранного удара тральщика. Вслед за ним в атаку на “щуку” вышел уже минный заградитель. Но командир прикинул по расстоянию до “Бруммера”, что “по-срочному” они погрузиться успеют. Подал команду: “Срочное погружение!” – и в этот момент его тяжело ранило. Коваленко упал в ограждении рубки, прозванном подводниками за полукруглые обводы “лимузином”. А вахтенный офицер, выждав короткое время, оглядел мостик и поспешил к рубочному люку. Крикнул: “Есть кто в “лимузине”?” Но ответа не последовало. А еще он увидел, как вниз, в прочный корпус, спускался кто-то, тяжело раненный, окровавленный, и офицер посчитал, что это командир. Но это был боцман.
Вахтенный офицер дал возможность мнимому командиру спуститься в центральный пост. И уже когда начал закрывать за собой рубочный люк, так как лодка шла на срочное погружение, то внезапно увидел в темноте лежащего командира, последними словами которого были: “Погружайтесь без меня!” Но что значило в той ситуации спасти командира лодки? Лодка успела погрузиться на глубину лишь семь метров. И таранного удара минного заградителя избежать ей не удалось, хотя и пришелся он вскользь по легкому корпусу, погнул перископы, перекосил ограждение рубки…
Коваленко остался жив. Немцы подобрали его из воды. Вначале выдавал себя за краснофлотца. Однако по агентурным сведениям немцы все же установили, что он командир подвод ной лодки. О мужественном поведении североморца в плену свидетельствует тот факт, что в 1944 году его расстреляли, по архивным свидетельствам, за попытку поднять восстание среди военнопленных в концлагере, который находился во Франции.
Щ-403, вот уж воистину счастливая “щука”, оторвалась тогда от преследования и возвратилась в базу».
Командиром обезглавленной Щ-403 и назначили капитан-лейтенанта Шуйского. На этой должности в полной мере раскрылся его командирский талант. В шести сложных боевых походах он уничтожил пять транспортов и тральщик противника. За эти подвиги Шуйский, единственный из всех североморцев-подводников, был удостоен ордена Александра Невского и трех орденов Боевого Красного Знамени. Есть легенда, что Шуйского представляли и к званию Героя Советского Союза, но кому-то наверху показалась такая оценка героизма командира Щ-403 излишней.
Летом 1943 года Краснознаменной стала и сама подводная лодка Щ-403. В свой очередной боевой поход она вышла в октябре того же года и не вернулась в базу… Предположительно, Щ-403 погибла вместе со всем экипажем 17 октября в районе мыса Maккaypa от подрыва на мине. На памятнике героям-подводникам в Полярном выбито и имя капитана 3-го ранга К. Шуйского.
* * *
В целом анализ предвоенных катастроф ВМФ, связанных с тараном надводными кораблями своих же подводных лодок, говорит в большинстве случаев о безответственном отношении командиров и офицеров кораблей к своим обязанностям, непонимания ими опасности нарастающих событий, медленной реакции на меняющуюся обстановку и запоздалом в связи с этим принятии решений. Все это явилось следствием весьма низкого уровня подготовки командиров подводных лодок и всего командного состава советского подплава в середине 30-х годов ХХ века. Причины этого следует искать в том числе и в практически полном уничтожении дореволюционных командных кадров, имевших опыт Первой мировой войны и прекрасную теоретическую подготовку. Еще более усугубило дело уничтожение уже заново подготовленных кадров в 1937–1938 годах. Все это и предопределило неудачи наших подводников в первый период Великой Отечественной войны: низкие боевые результаты и большие потери. Обстановка стала выправляться только тогда, когда командиры подводных лодок набрались боевого опыта. Прошли через череду аналогичных катастроф в предвоенное время и все ведущие флоты мира. Увы, но освоение новых тактических приемов, опыта совместного маневрирования подводных лодок с надводными кораблями и учебных выходов на них в атаку на всех флотах были щедро оплачены кровью подводников…
Трагедия Щ-139
Оборвался сигнал, как живая струна,
Что случилось – никто не узнает.
И ворвались в отсеки пожар и вода.
Они поняли, что погибают.
Я. Ливанский
Об этой давней и весьма запутанной истории не помнят ничего уже даже ветераны. Это не случайно. Во-первых, произошла она давно, а во-вторых, уже тогда было сделано все, чтобы пресечь любую утечку информации. И сегодня, занимаясь происшествием на Щ-139, мне пришлось буквально по крупицам собирать сведения о том давнем событии. Даже сейчас в истории с этой тихоокеанской подводной лодкой гораздо больше вопросов, чем ответов.
Официальная информация о событиях 26 апреля 1945 года чрезвычайно скудна. Известно лишь, что в этот день на подводной лодке Тихоокеанского флота Щ-139, находившейся в базе Владимир, произошел взрыв, в результате которого погибли несколько человек, а сама лодка была на длительное время выведена из строя. В некоторых источниках встречается предположение, что имела место спланированная диверсия. Вот, пожалуй, и все. Много это или мало? Мало, если ограничиться только этим. Много, если принять данную информацию как исходную и начать поиски.
О том, насколько мне удалось приоткрыть завесу тайны над взрывом Щ-139, судить вам, уважаемые читатели.