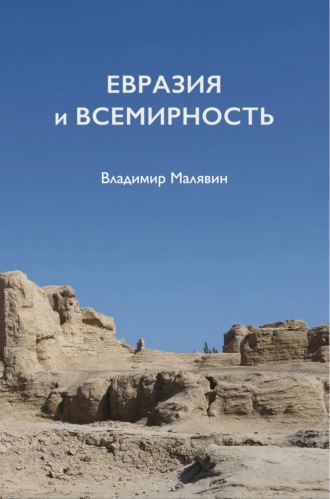
Владимир Малявин
Евразия и всемирность
Пускай в ночной тишине встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи…
Таков же мир современных информационных технологий – мир самостираюшихся и постоянно возобновляющихся образов. Но это также мир мифа, который в широком смысле слова есть словесный образ природы бытия как со-бытийности, предшествующей и идеям, и вещам. Подобно тому как организм реагирует на присутствие в нем инородного тела повышением температуры, доводящей порой до бреда, миф в своей фантастичности представляет собой бессознательный способ связи архе с историей. Эту задачу нельзя решить логически, но ее остроту можно снять как раз посредством иносказательности нарратива с его мотивом уподобления предметного мира отсутствующей, но вечносущей реальности, каковая есть чистая актуальность, непостижимая текучесть существования. Миф утверждает иерархию бытия, которой соответствует примат архе, т. е. изначального времени или, точнее, чистой временности над исторической хронологией. При этом в евразийском ареале реальность мифа, в отличие от европейской Античности, была осмыслена не в категориях умозрения и предметного опыта, а как чистая имманентность жизни: миф был встроен в историю. В результате на Востоке отсутствует противопоставление мифа разуму или истории и даже само понятие мифа, а архаическая мифология преобразилась либо, как у степных народов, в героический эпос, либо, как в Китае, в монументальное иносказание и этико-космологическую систему. Это означает, помимо прочего, что в Евразии реальность удостоверяется посредством ее самоустранения, самопотери. В общественной жизни это соответствует верховенству светской церемонности.
Итак, основа евразийского уклада и корень его жизненности заключаются в приятии изначальной, простейшей и вечносущей пред-основы человеческого существования: того, что остается, когда все оставлено (и следовательно, в конечном счете оставлено в покое). Что же остается в таком случае? Решительно все, т. е. исконная, ничем не ущемленная полнота жизни, но это значит, прежде всего, собственное отсутствие, инобытность всего. Не предмет, не субстанция, не идея, не форма, не сущность. Нерукотворное. Неуловимое, но внушающее безусловное доверие. Мы без труда можем эмпирически убедиться в том, что наша личная и коллективная идентичность какими-то тайными, но неразрывными узами связана с этой родной чуждостью в нас и с нашим, говоря старорусским языком, странноприимством.
Современные общества буквально одержимы поисками своей идентичности. Вероятно, потому, что нынешнее торжество капитализма с небывалой силой утверждает анонимность, безличность всего, что причастно круговороту капитала. По той же причине образы идентичности невозможно найти в настоящем. Их приходится искать в недосягаемом прошлом. Ностальгия по культурным «корням» – фирменный знак модерна. «Чудо, которым была Индия»; «Россия, которую мы потеряли»; «возвышенная древность»… Оттого же обостренное национальное самосознание, как правило, приводит к результатам неожиданным для банального национализма. Вот один пример: японцев не заподозришь в отсутствии национальной гордости, но популярный в современной Японии лозунг утверждает, что Япония экзотична, как чужая страна. Сравнение «как» в этом суждении нам уже знакомо: оно делает видимые образы подобием чего-то иного и невидимого, открывает в нашем опыте бездонную глубину самоотличия. Все видимое оказывается результатом смещения, трансформации сокровенной реальности; всякое явление имеет свою невидимую предысторию. Только в этом качестве действительность может быть включена в отношения капиталистического обмена. Неудивительно, что уподобление Японии экзотической стране и, следовательно, назойливая эстетизация ее образа означают превращение Японии в коммерческий бренд, ибо кампания за «открытие Японии» ее собственными жителями призвана, конечно, стимулировать развитие туристического бизнеса. Явление вполне естественное: капиталистическая экономика, фетишизируя товар, культивирует экзотику трюизма до полного опошления экзотического, питается «празднованием банальности», celebration of banality (хорошее определение американизма, данное мне одним простым американцем). Быть может, истинная сила капитала как раз и состоит в его способности одновременно высвобождать и приручать глубинные импульсы жизни сознания.
«Празднование банальности», привязанное к жесточайшей рациональности капитала, животная жизнь в грезах величия – вот подлинная тема «конца истории». Полезно вспомнить, как путано и противоречиво изложена эта тема у ее главного проповедника, Гегеля. История в ее поверхностном виде хронологии есть для Гегеля только «бессмысленная череда происшествий». В телеологической перспективе она «предстает как судьба и необходимость Духа, который еще не достиг полноты в себе». Это означает, что дух творит историю в той мере, в какой он сам не принадлежит истории, но в каком-то смысле присутствует в ней. «Абсолютное благо, – пишет Гегель в другом месте, – вечно свершается в мире. Это значит, что оно и предположительно, и в полной актуальности уже достигнуто». Проблема Гегеля, предопределенная законами его логики и стремлением мыслить действительность в категориях оппозиции субъекта и объекта, состоит в том, что самореализация духа в истории равнозначна ее самоотрицанию: дух историчен ровно в той мере, в какой превосходит хронологию. «Свершение времен» мыслилось на Западе как апокастасис, восстановление всего сущего в его полноте для всех времен, что подразумевает также восстановление доисторического лица Земли, т. е. гуманитарную катастрофу. Чего не предвидел Гегель, так это то, что история кончается двумя противоположными способами сразу.
Востоку конец истории был по-своему известен с самого начала: достаточно вспомнить тему «возвращения» (перевоплощения) предков, а впоследствии и будд – явная параллель христианскому мотиву вочеловечивания Бога, хотя толкуемая совершенно иначе. На Востоке конец истории мыслился как отсутствующее, только чаемое восполнение вещей в великом круговороте бытия и потому потенциально доступное в каждый момент исторического времени. Целью же истории на Востоке считалось достижение родовой полноты бытия посредством акта самотипизации вещей. Достаточно указать на нормативные комплексы движений в китайских боевых искусствах, которые означали именно ритмическую реализацию глубинной матрицы существования. «В каждой фигуре силы надлежит созидать сферически-пустотную полноту, каковая есть Беспредельное, – говорится в недавно опубликованных рукописях одной из школ боевой гимнастики тайцзицюань. – Поэтому главное в каждой фигуре силы – вращение по сфере…»[19]. Сфера есть фигура одновременно внутренней полноты и вездесущей граничности существования. Речь идет о бесконечно ограничивающем и самоограничивающемся круговороте бытия, безупречной соотносительности или бесконечно действенном недействовании и, следовательно, бездонном резервуаре событий, в котором актуальное (мысль) не может себя до конца реализовать, а реальное (тело) – себя актуализировать[20]. Но речь идет об истории как пути духовного совершенствования, еще точнее – сокровенной истории школы, возвращающей к исходной полноте сущего. Эта история никогда не продолжается, а напротив, непрерывно теряется, забывается в мире. Она воплощена в чистой текучести времени.
Итак, конец истории – это не ее прекращение, а ее завершение, исполнение заветов. Но восполнение истории осуществляется в вечно отсутствующей паузе, промежутке бытия, исполненном беспредельной творческой мощи. Сказанное объясняет, помимо прочего, свойственный культурам евразийского ареала акцент на сокровенности истины и передачи ее от учителя к ученику вне слов и даже субъективного сознания, в опыте чистого переживания.
Если истина нашего существования, или, как принято сейчас говорить, наша идентичность, есть то, что остается после того, как все оставлено, если она существует вне присутствия и отсутствия и не поддается объективации, то она имеет фантомную природу. Речь вовсе не о фантастике, а об определенном познавательном статусе вещи, которая присутствует как раз в своем отсутствии и может представать лишь собственным подобием – подобием интимно-неведомого. Таков статус вещи как вестника вечности.
У Поля Валери есть любопытный псевдоплатоновский диалог о молодом Сократе, который находит на берегу моря некий «неопределенный предмет» (objet ambigu). Сократ долго рассматривает его, пытаясь обнаружить в нем какую-нибудь практическую, умозрительную или эстетическую ценность, но безуспешно. В конце концов он выбрасывает свою странную находку в море и благодаря этому становится первым сократическим философом – методологом знания, основоположником западной интеллектуальной традиции. К сожалению, рассказ умалчивает о том, что именно происходило с Сократом, когда он пытался обнаружить в своей странной находке что-нибудь ценное и понятное. Ответ на этот вопрос – если продолжить примеры из французской литературы – можно найти в эссе Шарля Бодлера о «живописце современности» г-не G. Так Бодлер зашифровал имя французского художника Константина Ги, и, как мы сейчас увидим, не без причины. Этот художник днем бродит по улицам Парижа, упиваясь лихорадочным блеском городской жизни, – он стремится запечатлеть именно современное, т. е. «преходящее, ускользающее, случайное». Он не делает зарисовок с натуры, но работает по вечерам дома, полагаясь на память и отдаваясь «опьянению карандаша». Он работает быстро, как бежит сама жизнь, боясь только, что не успеет запечатлеть мгновенные впечатления, всплывающие в его сознании, эту «фантастическую реальность самой жизни», которая лежит глубже всего видимого и знаемого. Он становится человеком без имени, одновременно ничтожным и великим, как Демиург. И вот под его карандашом «вещи воскрешаются на бумаге, естественные и более чем естественные, прекрасные и более чем прекрасные, необыкновенные и напоенные жизненностью энтузиазма, как сама душа их творца. Из природы извлекается фантасмагорическое в ней. Все хранимое памятью располагается в порядке и подчиняется принудительной форме, идущей от детского восприятия, то есть восприятия, обретающего магическую ясность благодаря своему целомудрию»[21].
Сумбурный и многоплановый пассаж, требующий большого комментария. Но пока отметим его главную мысль: творчество создает мир более реальный, чем так называемая объективная действительность. Полные экспрессии, неудержимой взрывчатой силы образы, выходящие из-под карандаша г-на G., не принадлежат его субъективной памяти, ибо, по сути, не могут быть удержаны ею. Художник живет инкогнито, и не столько изображает вещи, сколько отпускает их на волю, дает раскрыться потенциалу их фантомного бытия. Оттого же образы его творчества ничему не соответствуют в действительности, но скорее заменяют ее и притом воплощают некий избыток жизненности по сравнению с реалистическим изображением: они «жизненнее жизни». Творчество г-на G. – сплошная «благодатная ошибка», систематическая и притом всевидящая «слепота сознания», которая лежит, согласно М. Мерло-Понти, у истоков нашего восприятия мира. Поистине, как говорил Ницше, увидеть вещь прекрасной – значит увидеть ее неправильно. Образы, создаваемые художником, побеждают хронологию и приобщают к вечной жизни именно потому, что свидетельствуют о первозданной мощи бытийных метаморфоз – этой силе саморазличия, самопреодоления всего сущего. Здесь все истинно и реально в той мере, в какой не является собой, не принадлежит себе. И поэтому здесь все вещи веют вечностью творческой самозабвенности.
Как ни удивительно, творчество художника G. совпадает в своих основных положениях с принципами работы восточных живописцев: изображать не «натуру», а внутренний динамизм духа, работать по памяти, освобождающей от привязанности к внешним вещам, возвращаться к истоку опыта, к чистой восприимчивости духа, что означает возводить вещи к их вечноживым, типовым формам посредством сведения воедино наиболее отчетливых качеств восприятия. Творить так – значит без остатка отдаваться безграничной силе творческих метаморфоз жизни. Человеческий социум и есть, в сущности, такое личностное существование, возведенное к его родовой полноте. Его прообразом в обществе является школа как метод передачи и наследования вечносущих качеств духовного опыта (впрочем, в жизни духа других и не бывает). В школе и школой творится «сверхвременное соборное тело» человечества, длящееся в череде поколений.
Итак, в начале всего лежит событие, смещение вещей в их исконной совместности. Таков «изначальный фантазм», являющийся в своем сокрытии. Бездна «явлений и чудес». Нельзя понять евразийский мир, не замечая того, что его культурные традиции питались памятью неопределенности фантазма. Реальность в китайской мысли есть «нечто завершенное в хаосе», существующее «прежде Неба и Земли», пребывающее «между сущим и несущим», а мир – это бесконечное богатство разнообразия, в котором мудрый, будучи причастным к «Единому Превращению» всего сущего, прозревает во всех явлениях инволюционный обратный ход, «возвращение к истоку». В бесконечной череде жизненных метаморфоз все есть другое, все существует под знаком «как» и даже «как бы», в ней все есть только подобие (тезис, неприемлемый для Гегеля). Примечательно, что в большинстве восточноазиатских языков отсутствует сослагательное наклонение, а образ и подобие обозначаются одним и тем же словом, причем подобие ставится даже прежде богов (см. Дао дэ дзин», гл. 4). Будда есть тот, кто «приходит в подобии». Культурная практика сводится к производству подобия: поклоняться богам, по завету Конфуция, нужно «так, как если бы они присутствовали», мудрый «ходит как ходит, стоит как стоит» и т. д. Природа письма, как уже говорилось, тоже есть «подобие», «образ в зеркале», обращающий взгляд вовнутрь; нечто, ежемгновенно теряемое и именно поэтому неизбывное. Оттого и творчество на Востоке вдохновляется мечтой о незапамятной древности – ближайшем прообразе первичного фантазма; в живописи ключевая метафора – тающая дымка, в музыке – «замирание звука».
Заметим попутно, что самоисчерпание классического интеллектуализма на Западе тоже воскресило имманентное откровение подобия. У М. Пруста растворение сознания в «непроизвольной памяти» выявляет «мир, превратившийся в собственное подобие» (Беньямин). У М. Хайдеггера логос оказывается бесконечно воспроизводимой «структурой подобия», Als-Struktur. Для Р. Барта вечносущее дает знать о себе в «угасании голоса». Для Ж. Бодрийяра и Дж. Агамбена мир всегда уже спасен в «непоправимой таковости», т. е. чистом подобии, всего сущего. Во всех случаях подобие предстает формой чистой временности, добытийным различием, которое служит общей матрицей бытия, сознания и языка.
Если модерн именем советской власти всех и всем прописал, то постмодерн предлагает выписаться из книги истории – и так оставить в ней (фантомный) след. Выписка сама себя стирает, на ее месте зияет провал, она и есть подлинное событие – всегда отсутствующее и вездесущее. Язык выписки ничего не обозначает, сам себя упраздняет. Он возвещает о «линии бегства», столь же неисповедимой, сколь и неотвратимой. Он говорит о единении в том, что для всех чужое: «бесконечной конечности» существования, столь же актуальной, интимной, сколь и недостижимой. Постмодерн отвращается от политики, чтобы обратиться к «политическому» как условию всякой политики. Он выстраивает метаполитическую оппозицию между неуловимой «империей» – этим невидимым, но страшным Минотавром современности – и разношерстными, анонимными, текучими, но всегда конкретными, живо ощущаемыми «множествами». Среди поименованности всего и вся, насаждаемой государством, реальная общественность выступает как начало безымянное, ибо она есть сама актуальность существования. Иное в нас есть тайна нашей (бес)конечности.
Итак, по современному миру бродит призрак не столько коммунизма, сколько неопределенного предмета, напоминающего непонятно что. Сегодня особенно важно осознать изначальную призрачность опыта как главное условие самой истории и оценить потенциал вероятностной логики, концепций саморегулирующихся сложных систем и скрытых переменных. Полезно сделать предметом исторического изучения формы проявления фантомной реальности в культуре и способы их усвоения личным и общественным сознанием. Хорошие возможности для такого исследования предоставляет и эволюция больших стилей культуры, которые, по меткому замечанию Г. Башляра, развиваются из «семян сновидений». Такая работа будет благодатна для России, ибо в условиях ускоренного капиталистического развития и ослабления идеологических зажимов русские будут все настойчивее вызывать из небытия своих «родных призраков», образы России будут быстро множиться. Для этого не требуется никаких «проектов» и «бюджетов», тем более никакой пропаганды. Достаточно спонтанного высвобождения сознания. Вот где главный ресурс «брендирования» России, о котором сейчас так много говорят.
Именно потому, что фантомный субстрат опыта регулируется не логическими процедурами, а чистой временностью, всегда погружен в поток саморазличения и не имеет идентичности, он делает возможной отсутствующую преемственность в истории. В его свете люди разных эпох становятся совопросниками одного века, и череда поколений, говоря словами Паскаля, претворяется в «одного человека, который непрерывно учится» (учится… терять!). Настоящие «уроки истории» состоят не в том, чтобы истории подражать, а в том, что история позволяет открыть в своей текучести нечто непреходящее: саму фактичность факта, нечто сущее только «здесь и сейчас». В традиции нет никакой субъективности, никакого авторства хотя бы потому, что на высшую цельность нельзя воздействовать, ей можно только следовать, ступая по следам предков. Традиция держится преемствованием сокрытости – хотя бы так, как это представляли себе древние римляне, объяснявшие смысл своей латыни (latine) через слово «скрытый» (latens). Язык традиции – всегда тайнопись, выписываемая к тому же быстро испаряющимися чернилами. Отсюда свойственный традициям Востока акцент на «тайной» и «устной», т. е. неотделимой от текущих обстоятельств и даже телесного бытия личности, передаче истины.
Но что такое эта самоскрывающаяся явленность или непреходящая прерывность? Не что иное, как срединность – средоточие бытийного круговорота, нераздельность виртуальных и актуальных качеств бытия, дифференциал соотношения сил, постепенно утончающийся по мере роста духовной чувствительности. Работа духовного пробуждения возвращает нас к зыбкому мареву «семян вещей», миру едва уловимых шорохов и переливов оттенков цвета. Тем самым она делает возможным появление памяти, образы которой по мере ослабления способности к восприятию тонких различий огрубляются до стереотипов и все больше соотносятся с внешним миром, теряют связь с фантомной глубиной опыта. При этом фантомность служит посредованию между обеими тенденциями; она и есть, по сути, самый верный признак обостренной духовной чувствительности.
От фантомов истории мы переходим, таким образом, к истории фантомов и неожиданно открываем в ней личностное измерение. Мы открываем для себя историю духовного просветления, благодаря которому сквозь субъективно-случайный хаос впечатлений и всем чужую «объективную действительность» прорастает родовой-родной порядок, одновременно личный и общий, по сути – соборный. На Востоке каждая школа имеет свой репертуар типов фантомной реальности, а ее основоположник наделен фантомным бытием, что позволяет ему вновь и вновь возвращаться в мир в череде поколений и даже эпох. Ибо сила фантомной реальности высвобождается как раз в переломные моменты истории, ведь она есть природа события и мировой со-бытийности.
В конце концов только эта школьная и всегда другая, выписываемая как бы школьными прописями, и притом выписывающая из мира, развязывающая творческие силы история нравственного созревания в почве первичного фантазма может чему-то научить. И она учит, в сущности, только одному: великой мудрости смирения, умению жить с миром в мире и… поверх мира.
Типология евразийских цивилизаций
Мы встречаем в Евразии редкое разнообразие жизненных, хозяйственных и культурных укладов. Ее центральные области характеризуются на первый взгляд странным, по-своему утонченным симбиозом государственных образований кочевых народов и оазисного земледелия с развитой городской культурой. Сходный симбиоз, только значительно большего масштаба, наблюдается в отношениях великих кочевых и земледельческих цивилизаций Восточной Азии. Не будем сейчас говорить о природе этого симбиоза, который допускал практически в равной степени как соперничество двух очень разных типов цивилизаций, так и отношения их взаимной дополнительности, даже взаимной опоры. Может быть, точнее всего эти отношения описываются старинной китайской поговоркой: «Губы и зубы не действуют друг для друга, но если убрать губы, зубам будет холодно». В рамках этой великой метаобщности очень важную, если не главенствующую, роль играло само географическое местонахождение народов. Китайская историография, например, требует оценивать народы по степени их близости к Китаю. Племена, обитавшие на самой границе китайской империи, обычно поддерживали с ней дружеские отношения и в большой степени зависели от торговли с великой земледельческой страной. Располагавшиеся за ними в некотором отдалении от собственно Китая народы, которые составляли, так сказать, костяк кочевых цивилизаций, отличались твердой приверженностью к кочевым обычаям и обычно предпочитали добиваться своих целей военной силой. А народности, наиболее удаленные от Китая, например обитатели Южной Сибири, опять-таки стремились к мирной торговле с Поднебесной. Такой взгляд, конечно, тенденциозен и не может служить основой международных отношений в евразийском мире. Но он указывает на особую природу принятых в политической системе Евразии отношений – отношений, как принято говорить в стратегической теории, свободно конвертируемых, легко сочетающих мирное соседство, свободное дружеское общение с соперничеством и даже жестким противостоянием. Более того, одно, в сущности, предполагает другое и потенциально в нем присутствует.
Думается, что природу евразийского единства невозможно определить на путях сопоставления различных цивилизационных типов. Здесь нужно обратиться к тому, что можно назвать метацивилизационными факторами различных культурных укладов. Эти факторы не исторические, а логические, принимающие в истории очень разные формы в зависимости от обстоятельств и, в сущности, присутствующие всегда и всюду. Попробуем их определить.
Если цивилизация определяется способом объективации внутреннего самообраза человека или даже, говоря шире, человеческого присутствия в мире, то мы действительно можем выделить две логические, или, по-другому, метаисторические, возможности этого действия. Первая состоит в отождествлении сознания с его предметным содержанием, сведении сознания к сознаванию чего-то. Вторая предполагает сведение сознания к его пределу, к акту (само)превращения. Первая возможность соответствует классическому западному образу сознания как восковой дощечки, на которой запечатлеваются идеи или формы, доступные лишь умозрению. Вторая возможность получила развитие в восточной мысли, которая видела в сознании светоносный поток – в идеале покойный и гладкий, как чистое зеркало, но всегда динамичный, превосходящий всякую предметность, – который хранит в себе, но не удерживает образ мира и, конечно, не сливается с ним. В таком случае сознание оказывается полем для игры творческого воображения и преображения, и сама память, как предположил еще Бергсон, представляет виртуальную параллель действительного в сущности, образ того, чего никогда не было в прошлом.
Два указанных модуса человеческого самопознания, конечно, не совпадают полностью с оппозицией Запада и Востока. Второй тип миросозерцания был весьма влиятелен в культуре средневековой Европы, выстроенной на символизме преображения свойственного ритуальному действию. Он явственно различим в философском наследии Лейбница, Баадера, Ницше, Бергсона, Хайдеггера, Мерло-Понти, Делеза и многих других европейских философов. Но нельзя отрицать, что первый подход к проблеме сознания наиболее полно выразился в античной мысли и особенно философии Нового времени. Переход к модерну ознаменовался редукцией условий знания к строгой оппозиции субъекта и объекта (каковая, как стало ясно теперь, была чистой воды мифом) и забвением внутренней глубины опыта, соответствующей преемственности перемен.
В отличие от модернистской, восточная (традиционная) модель миросознания зиждется на сверхлогической связи между внутренней глубиной деятельного, самопревращающегося (читай: самовозносящегося) духа и того, что можно назвать тенью вещей, или культурой как декоративным, орнаментальным качеством бытия. Вместо оппозиции субъекта и объекта мы имеем дело с внешним и внутренним измерениями мировой цельности, причем внутреннее, как знали все мистики, несет в себе нечто еще более внутреннее или внутреннейшее. (Этот тезис, впрочем, вытекает из семантики самого понятия внутреннего.) В свою очередь, внешнее находит себя в чем-то еще более внешнем, внеположенном всему. Соотношение двух указанных матриц познания мира схематически можно представить в виде такой схемы:

Связь между пределами внутреннего и внешнего существования обозначена здесь пунктиром вследствие ее, как уже говорилось, сверхлогического, даже парадоксального характера. Это о ней сообщается в известных формулах религиозной мудрости: «последние станут первыми» (Мф. 19: 30), «унижающий себя возвысится» (Лк. 14: 11), «великое постигается в малом», «образ пребывает вне образа» (восточная мудрость) и т. д.
В культурной практике прообразом такой связи выступает, выражаясь старорусским языком, категория чина как ритуального, т. е. символического, целиком осознанного – и притом творческого, творящего – действия. Мистическая глубина «внутреннего человека» и декорум «общественной персоны» связаны, повторим еще раз, недоступной формализации, в западных религиях догматически зафиксированной связью. Духовный реализм, составляющий ядро православного миросознания, есть спутник ритуального ведения-действия, и соотносится он с опытом присутствия живого, сознающего тела, которое в своем пределе воплощается, по слову В. Муравьева, в «сверхвременном порядке жизни соборного тела», оно же «тело Христа», «тело Будды». Именно тело – еще точнее, тело святого – выступает посредником между внутренним и внешним измерениями существования в их крайнем, установленном традицией виде. Небесная высота духа удостоверяется земными мощами. Речь идет о неопределимой соотнесенности между внутренностью внутреннего, «сокровенной клетью сердца», и внешностью внешнего – тенями, отблесками, эхом бытийных метаморфоз, природа которых предстает бесконечной глубиной самоподобия, преемственностью в различии. Внутреннее и внешнее здесь связываются по принципу таинственного – или, как говорили на Востоке, «утонченного», «чудесного» – совпадения противоположностей вне субъектно-объектного параллелизма. Четкость материальных образов отмерена степенью духовной просветленности, Сущностью же тела выступает пустота как отсутствующая, пустотная, бесконечно утончающаяся дистанция самоподобия. Восприятие своего тела как пустотной, динамической цельности – общая норма восточных культур. Это тело переживается, опознается как предельно насыщенная пауза, мимолетность интенсивно проживаемой жизни, одновременно среда и фокус, вездесущее средоточие всего сущего. В ее свете все существует ровно в той мере, в какой оно не существует, и мир теряет себя или, лучше сказать, предоставлен сам себе в бесконечном богатстве разнообразия жизни.
В даосском каноне «Дао дэ дзин» (глава 15) сказано: «Праведные мужи древности были утонченны в мельчайшем и сообщительны в сокровенном». Таковы плоды духовного бодрствования на Востоке: речь идет о постижении сокровенной преемственности превращения в бесконечно малой дистанции самоподобия, или, что то же самое, самоотличия. Или по-другому – о чистой сообщительности как дифференциальном отношении различных векторов силы.
В таком случае принципом классификаций явлений, исходной единицей мироустройства служат не те или иные предметы, а качества ситуаций, потенциально бесконечно сложных, то есть вещи, прозреваемые в перспективе их творческих метаморфоз, погруженные в бездну их виртуального бытия, в конечном счете – всевместительная пустота всякой функции. Так в притче даосского философа Чжуан-цзы пустота Неба дает быть всем явлениям мира, пустота природных отверстий дает быть бесконечно сложному хору земных голосов, пустота отверстий флейты рождает человеческую музыку. Здесь каждая вещь оправдывается ее пределом и существует в меру ее соотнесенности с миром: каждое существо поистине богато миром. Примечательно, что китайцы классифицировали живые существа по количеству суставов и отверстий в теле, т. е. точкам соединения внутри тела и контакта тела с внешним миром.
В голограмме мира все сущее указывает на несущее (все в себе несущее), все есть – повторим еще раз – собственное подобие, свое инобытие[22]. Понятно в таком случае, почему в китайской традиции конфигурации творческой силы жизни формулируются откровенно иносказательным, даже фантастическим языком, являют очевидную мнимость: «черный дракон выходит из пещеры», «белый аист расправляет крылья» и т. п. Откровенная фантастичность этих образов напоминает, что они выполняет только дидактическую функцию и что их подлинный смысл – внеобразная пустота.
В представленной здесь картине мира существенны не идеальная форма цветка и не единичный цветок как таковой, но внутренний динамизм формы, соотносящийся с ее пределом. Поэтому в восточном (или традиционном) мировоззрении вещи сводятся к одной-единственной черте, которая, как ни странно, даже не принадлежит этой вещи. На такой редукции основана, в частности, китайская иероглифическая письменность. Часто это качество обозначено почти незаметным нюансом, который тем не менее придает этому предмету или, вернее, возводит его к непреходящему, надвременному качеству существования. Этих качеств в потенции бесконечно много. Именно поэтому вечно-живым в существовании является сама актуальность переживания, и абсолютное совпадает с конечным. Таким образом, вещь полнее всего выражает себя (точнее, пустотно-отсутствующее всеединство жизни) в тот момент, когда переходит в нечто иное и, стало быть, выглядит странной, необычной, даже гротескной. Но в функциональности всеединства вещи «продолжаются друг в друге» (Чжуан-цзы), мир сложен из себя и в себя складывается, составляет одно живое тело – тело свернувшегося кольцами дракона и притом неуловимо стремительное, как «вспышка молнии» или «полет птицы». Аналогичным образом событийность удостоверяется актом всеобщего рассеяния, она всевременна и возобновляет себя повсюду, вечно временит, реализуя себя в само-различии (оставаясь в земном восприятии вечной незавершенностью).







