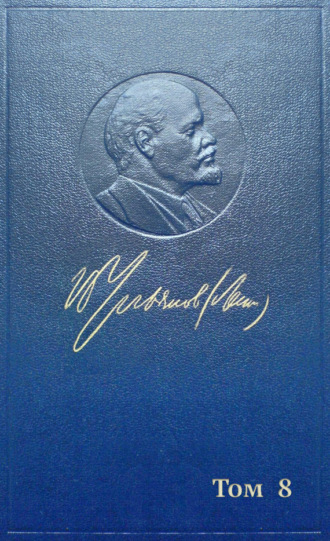
Владимир Ленин
Полное собрание сочинений. Том 8. Сентябрь 1903 ~ сентябрь 1904
Поскольку можно выделить из этого клубка нечто принципиальное, постольку неизбежно прийти к выводу, что «выборы не имеют ничего общего с оскорблением политической репутации», что «отрицать право съезда на новые выборы, на всяческое изменение состава должностных лиц, на переборку уполномачиваемых им коллегий» значит вносить путаницу в вопрос и что «в воззрениях тов. Мартова на допустимость выборов части прежней коллегии проявляется величайшее смешение политических понятий» (как я выразился на съезде, стр. 332)[117].
Опускаю «личное» замечание тов. Мартова к вопросу о том, от кого исходит план тройки, и перехожу к его «политической» характеристике того значения, какое имеет неутверждение старой редакции:… «Происшедшее теперь есть последний акт борьбы, имевшей место в течение второй половины съезда»… (Правильно! и эта вторая половина начинается с того момента, когда Мартов в вопросе о § 1 устава попал в цепкие объятия тов. Акимова.)… «Для всех не тайна, что дело при этой реформе идет не о «работоспособности», а о борьбе за влияние на ЦК» (Во-первых, для всех не тайна, что дело шло тут и о работоспособности и о расхождении из-за состава ЦК ибо план «реформы» выдвинут был тогда, когда еще о втором расхождении не могло быть и речи, тогда, когда мы вместе с тов. Мартовым выбирали седьмым участником редакционной коллегии тов. Павловича! Во-вторых, мы уже показали на основании документальных данных, что дело шло о личном составе ЦК, что дело свелось à la fin des fins[118] к различию списков: Глебов – Травине кий – Попов и Глебов – Троцкий – Попов.)… «Большинство редакции показало, что оно не желает превращения ЦК в орудие редакции»… (Начинается акимовская песня: вопрос о влиянии, за которое борется всякое большинство на всяком партийном съезде всегда и везде, чтобы закрепить это влияние большинством в центральных учреждениях, переносится в область оппортунистической сплетни об «орудии» редакции, о «простом придатке» редакции, как сказал тот же тов. Мартов немного позже, стр. 334.)… «Вот почему понадобилось сократить число членов редакции(!!). А потому я и не могу вступить в такую редакцию»… (Посмотрите-ка внимательнее на это «потому»: как могла бы редакция превратить ЦК в придаток или в орудие? только так и в том случае, если бы она имела три голоса в Совете и злоупотребляла этим перевесом? не ясно ли это? И не ясно ли также, что выбранный третьим тов. Мартов всегда мог бы помешать всякому злоупотреблению и уничтожить одним своим голосом всякий перевес редакции в Совете? Дело сводится, следовательно, именно к личному составу ЦК, а речи об орудии и придатке сразу оказываются сплетней.)… «Вместе с большинством старой редакции я думал, что съезд положит конец «осадному положению» внутри партии и введет в ней нормальный порядок. В действительности осадное положение с исключительными законами против отдельных групп продолжено и даже обострено. Только в составе всей старой редакции мы можем ручаться, что права, предоставленные редакции уставом, не послужат ко вреду для партии»…
Вот целиком то место из речи тов. Мартова, в котором он впервые бросил пресловутый лозунг «осадкого положения». И теперь взгляните на мой ответ ему:
…«Исправляя заявление Мартова о частном характере плана двух троек, я и не думаю, однако, затрагивать этим утверждения того же Мартова о «политическом значении» того шага, который мы сделали, не утвердив старой редакции. Напротив, я вполне и безусловно согласен с тов. Мартовым в том, что этот шаг имеет крупное политическое значение, – только не то, какое приписывает ему Мартов. Он говорил, что это есть акт борьбы за влияние на ЦК в России. Я пойду дальше Мартова. Борьбой за влияние была до сих пор вся деятельность «Искры», как частной группы, а теперь речь идет уже о большем, об организационном закреплении влияния, а не только о борьбе за него. До какой степени глубоко мы расходимся здесь политически с тов. Мартовым, видно из того, что он ставит мне в вину это желание влиять на ЦК, а я ставлю себе в заслугу то, что я стремился и стремлюсь закрепить это влияние организационным путем. Оказывается, что мы говорим даже на разных языках. К чему была бы вся наша работа, все наши усилия, если бы венцом их была все та же старая борьба за влияние, а не полное приобретение и упрочение влияния? Да, тов. Мартов совершенно прав: сделанный шаг есть несомненно крупный политический шаг, свидетельствующий о выборе одного из наметившихся теперь направлений в дальнейшей работе нашей партии. И меня нисколько не пугают страшные слова об «осадном положении в партии», об «исключительных законах против отдельных лиц и групп» и т. п. По отношению к неустойчивым и шатким элементам мы не только можем, мы обязаны создать «осадное положение», и весь наш устав партии, весь нага утвержденный отныне съездом централизм есть не что иное, как «осадное положение» для столь многочисленных источников политической расплывчатости. Против расплывчатости именно и нужны особые, хотя бы и исключительные законы, и сделанный съездом шаг правильно наметил политическое направление, создав прочный базис для таких законов и таких мер»[119].
Я подчеркнул в этом конспекте моей речи на съезде фразу, которую тов. Мартов в своем «Осадном положении» (стр. 16) предпочел опустить. Неудивительно, что эта фраза ему не понравилась и что он не захотел понять ее ясного смысла.
Что значит выражение: «страшные слова», тов. Мартов?
Оно означает насмешку, насмешку над тем, кто к маленьким вещам прилагает большие названия, кто запутывает простой вопрос претенциозным фразерством.
Маленький и простой факт, который один только мог подать и подал повод к «нервному возбуждению» тов. Мартова, состоял исключительно в том, что тов. Мартов потерпел поражение на съезде в вопросе о личном составе центров. Политическое значение этого простого факта состояло в том, что большинство партийного съезда, победив, закрепляло свое влияние проведением большинства и в партийное правление, созданием организационного базиса для борьбы при помощи устава с тем, что это большинство считало шаткостью, неустойчивостью и расплывчатостью[120]. Говорить по этому поводу о «борьбе за влияние» с каким-то ужасом в глазах и жаловаться на «осадное положение» было не чем иным, как претенциозным фразерством, страшными словами.
Тов. Мартов не согласен с этим? Не попробует ли он показать нам, что был на свете такой партийный съезд, что мыслим вообще такой партийный съезд, в котором бы большинство не закрепляло завоеванного влияния: 1) проведением большинства же в центры, 2) вручением ему власти для парализования шаткости, неустойчивости и расплывчатости?
Перед выборами нашему съезду предстояло решить вопрос: предоставить ли одну треть голосов в ЦО и в ЦК партийному большинству или партийному меньшинству? Шестерка и список тов. Мартова означали предоставление одной трети нам, двух третей его сторонникам. Тройка в ЦО и список наш означали предоставление двух третей нам, одной трети – сторонникам тов. Мартова. Тов. Мартов отказался войти в сделку с нами или уступить и письменно вызвал нас на бой перед съездом; потерпев же поражение перед съездом, он расплакался и стал жаловаться на «осадное положение»! Ну, разве же это не дрязга? Разве это не новое проявление интеллигентской хлюпкости?
Нельзя не припомнить по этому поводу блестящей социально-психологической характеристики этого последнего качества, которую дал недавно К. Каутский. Социал-демократическим партиям разных стран нередко приходится теперь переживать одинаковые болезни, и нам очень, очень полезно поучиться правильному диагнозу и правильному лечению у более опытных товарищей. Характеристика некоторых интеллигентов К. Каутским будет поэтому только кажущимся отступлением от нашей темы.
…«В настоящее время нас опять живо интересует вопрос об антагонизме между интеллигенцией[121] и пролетариатом. Мои коллеги» (Каутский сам интеллигент, литератор и редактор) «будут сплошь да рядом возмущаться тем, что я признаю этот антагонизм. Но ведь он фактически существует, и было бы самой нецелесообразной тактикой (и здесь, как и в других случаях) пытаться отделаться от него отрицанием факта. Антагонизм этот есть социальный антагонизм, проявляющийся на классах, а не на отдельных личностях. Как отдельный капиталист, так и отдельный интеллигент может всецело войти в классовую борьбу пролетариата. В тех случаях, когда это имеет место, интеллигент изменяет и свой характер. И в дальнейшем изложении речь будет идти, главным образом, не об этого типа интеллигентах, которые и поныне являются еще исключением среди своего класса. В дальнейшем изложении, если нет особых оговорок, под интеллигентом разумею я лишь обыкновенного интеллигента, стоящего на почве буржуазного общества и являющегося характерным представителем класса интеллигенции. Этот класс находится в известном антагонизме к пролетариату.
Антагонизм этот – иного рода, чем антагонизм между трудом и капиталом. Интеллигент – не капиталист. Правда, его уровень жизни буржуазный, и он вынужден поддерживать этот уровень, пока не превращается в босяка, но в то же время он вынужден продавать продукт своего труда, а часто и свою рабочую силу, он терпит нередко эксплуатацию со стороны капиталиста и известное социальное принижение. Таким образом, интеллигент не находится ни в каком экономическом антагонизме к пролетариату. Но его жизненное положение, его условия труда – не пролетарские, и отсюда вытекает известный антагонизм в настроении и в мышлении.
Пролетарий – ничто, пока он остается изолированным индивидуумом. Всю свою силу, всю свою способность к прогрессу, все свои надежды и чаяния черпает он из организации, из планомерной совместной деятельности с товарищами. Он чувствует себя великим и сильным, когда он составляет часть великого и сильного организма. Этот организм для него – все, отдельный же индивидуум значит, по сравнению с ним, очень мало. Пролетарий ведет свою борьбу с величайшим самопожертвованием, как частичка анонимной массы, без видов на личную выгоду, на личную славу, исполняя свой долг на всяком посту, куда его поставят, добровольно подчиняясь дисциплине, проникающей все его чувство, все его мышление.
Совсем иначе обстоит дело с интеллигентом. Он борется не тем или иным применением силы, а при помощи аргументов. Его оружие – это его личное знание, его личные способности, его личное убеждение. Он может получить известное значение только благодаря своим личным качествам. Полная свобода проявления своей личности представляется ему поэтому первым условием успешной работы. Лишь с трудом подчиняется он известному целому в качестве служебной части этого целого, подчиняется по необходимости, а не по собственному побуждению. Необходимость дисциплины признает он лишь для массы, а не для избранных душ. Себя же самого он, разумеется, причисляет к избранным душам…
…Философия Ницше, с ее культом сверхчеловека, для которого все дело в том, чтобы обеспечить полное развитие своей собственной личности, которому всякое подчинение его персоны какой-либо великой общественной цели кажется пошлым и презренным, эта философия есть настоящее миросозерцание интеллигента, она делает его совершенно негодным к участию в классовой борьбе пролетариата.
Наряду с Ницше, выдающимся представителем миросозерцания интеллигенции, соответствующего ее настроению, является Ибсен. Его доктор Штокман (в драме «Враг народа») – не социалист, как думали многие, а тип интеллигента, который неизбежно должен прийти в столкновение с пролетарским движением, вообще со всяким народным движением, раз он попытается действовать в нем. Это – потому, что основой пролетарского, как и всякого демократического[122], движения является уважение к большинству товарищей. Типичный интеллигент à la Штокман видит в «компактном большинстве» чудище, которое должно быть ниспровергнуто.
…Идеальным образчиком интеллигента, который всецело проникся пролетарским настроением, который, будучи блестящим писателем, утратил специфически интеллигентские черты психики, который без воркотни шел в ряду и шеренге, работал на всяком посту, на который его назначали, подчинял себя всецело нашему великому делу и презирал то дряблое хныкание (weichliches Gewinsel) по поводу подавления своей личности, какое мы слышим часто от интеллигентов, воспитавшихся на Ибсене и Ницше, когда им случается остаться в меньшинстве, – идеальным образчиком такого интеллигента, какие нужны социалистическому движению, был Либкнехт. Можно назвать здесь также и Маркса, который никогда не протискивался на первое место и образцовым образом подчинялся партийной дисциплине в Интернационале, где он не раз оставался в меньшинстве»[123].
Вот именно таким дряблым хныканьем интеллигента, оставшегося в меньшинстве, и ничем больше – был отказ Мартова с коллегами от должности после одного только неутверждения старого кружка, были жалобы на осадное положение и исключительные законы «против отдельных групп», которые не были дороги Мартову при распущении «Южного рабочего» и «Рабочего Дела», а стали дороги при распущении его коллегии.
Вот именно таким дряблым хныканьем интеллигентов, оставшихся в меньшинстве, были все эти бесконечные жалобы, упреки, намеки, попреки, сплетни и инсинуации насчет «компактного большинства», которые рекой полились на нашем партийном съезде[124] (и еще более после него) с легкой руки Мартова.
Горько сетовало меньшинство на то, что компактное большинство имело свои частные собрания: надо же было, в самом деле, меньшинству прикрыть чем-нибудь тот неприятный для него факт, что те делегаты, кого оно приглашало на свои частные собрания, отказывались идти на них, а те, кто охотно пошел бы (Егоровы, Маховы, Брукэры), не могли быть приглашены меньшинством после всей съездовской борьбы между теми и другими.
Горько сетовали на «ложное обвинение в оппортунизме»: надо же было, в самом деле, прикрыть чем-нибудь тот неприятный факт, что именно оппортунисты, гораздо чаще шедшие за антиискровцами, а отчасти и сами эти антиискровцы, составили компактное меньшинство, уцепились обеими руками за поддержку кружковщины в учреждениях, оппортунизма в рассуждениях, обывательщины в партийном деле, интеллигентской шаткости и хлюпкости.
Мы покажем в следующем параграфе, в чем заключается объяснение того интереснейшего политического факта, что в конце съезда образовалось «компактное большинство», и почему меньшинство так тщательно-тщательно, несмотря на все вызовы, обходит вопрос о причинах и истории его образования. Но сначала закончим анализ прений на съезде.
При выборах в ЦК т. Мартов внес чрезвычайно характерную резолюцию (стр. 336), три основные черты которой я, бывало, называл «матом в три хода». Вот эти черты: 1) баллотируются списки кандидатов в ЦК, а не отдельные кандидаты; 2) после прочтения списков пропускается два заседания (на обсуждение, очевидно); 3) при отсутствии абсолютного большинства, вторая баллотировка признается окончательной. Эта резолюция – прекрасно обдуманная стратегия (надо отдать справедливость и противнику!), с которой не соглашается т. Егоров (стр. 337), но которая наверняка обеспечила бы полную победу Мартову, если бы семерка бундовцев и рабочедельцев не ушла со съезда. Объясняется стратегия именно тем, что у искровского меньшинства не было и не могло быть «прямого соглашения» (которое было у искровского большинства) не только с Бундом и с Брукэром, но и с тт. Егоровыми и Маховыми.
Вспомните, что т. Мартов плакался на съезде Лиги, будто «ложное обвинение в оппортунизме» предполагало его прямое соглашение с Бундом. Повторяю, это т. Мартову со страху показалось, и именно несогласие т. Егорова на баллотирование списков (т. Егоров «не растерял еще своих принципов», должно быть тех принципов, которые заставляли его слиться с Гольдблатом в оценке абсолютного значения демократических гарантий) показывает наглядно тот громадной важности факт, что даже с Егоровым не могло быть и речи о «прямом соглашении». Но коалиция могла быть и была и с Егоровым и с Брукэром, коалиция в том смысле, что мартовцам была обеспечена поддержка их всякий раз, когда мартовцы приходили в серьезный конфликт с нами и когда Акимову и его друзьям предстояло выбирать меньшее из зол. Не подлежало и не подлежит ни малейшему сомнению, что в качестве меньшего из зол, в качестве того, что хуже достигает искровских целей (см. речь Акимова о § 1 и его «надежды» на Мартова), тт. Акимов и Либер непременно выбрали бы и шестерку в ЦО и мартовский список в ЦК. Баллотирование списков, пропуск двух заседаний и перебаллотировка были предназначены именно для того, чтобы достигнуть этого результата с почти механической правильностью без всякого прямого соглашения.
Но поскольку наше компактное большинство оставалось компактным большинством, – обходный путь т. Мартова был только проволочкой, и мы не могли не отклонить его. Меньшинство письменно (в заявлении, с. 341) излило свои жалобы на это, отказавшись, по примеру Мартынова и Акимова, от голосований и выборов в ЦК «ввиду тех условий, при которых они производились». После съезда эти жалобы на ненормальность условий выбора (см. «Ос. пол.», стр. 31) изливались направо и налево перед сотнями партийных кумушек. Но в чем же была тут ненормальность? В тайном голосовании, которое было предусмотрено еще заранее регламентом съезда (§ 6, стр. 11 прот.) и в котором смешно было видеть «лицемерие» или «несправедливость»? В образовании компактного большинства, этого «чудища» для хлюпких интеллигентов? Или в ненормальном желании сих почтенных интеллигентов нарушать то слово, которое они дали перед съездом о признании всех его выборов (стр. 380, § 18 устава съезда)?
Товарищ Попов тонко намекнул на это желание, выступив на съезде в день выборов с прямым вопросом: «Уверено ли бюро, что решение съезда действительно и законно, если половина участвующих отказалась от голосования?»[125]. Бюро ответило, конечно, что уверено, и напомнило инцидент с товарищами Акимовым и Мартыновым. Тов. Мартов присоединился к бюро и прямо заявил, что т. Попов ошибается, что «решения съезда законны» (стр. 343). Пусть читатель уже сам судит об этой, – в высокой степени, должно быть, нормальной, – политической последовательности, которая обнаруживается при сопоставлении этого заявления перед партией с поведением после съезда и с фразой «Осадного положения» о «начавшемся еще на съезде восстании половины партии» (стр. 20). Надежды, которые возлагал на тов. Мартова т. Акимов, перевесили мимолетные добрые намерения самого Мартова.
«Ты победил», товарищ Акимов!
* * *
К характеристике того, до какой степени «страшным словом» была пресловутая фраза об «осадном положении», которой придан теперь навеки трагикомический смысл, – могут служить некоторые мелкие по виду, но очень важные по сущности черточки конца съезда, того конца, который имел место после выборов. Тов. Мартов носится теперь с этим трагикомическим «осадным положением», всерьез уверяя и себя и читателей, что это выдуманное им пугало означало какое-то ненормальное преследование, затравливание, заезжание «меньшинства» «большинством». Мы покажем сейчас, как было дело после съезда. Но возьмите даже конец съезда, и вы увидите, что после выборов «компактное большинство» не только не преследует несчастненьких, заезжаемых, обижаемых и ведомых на казнь мартовцев, а напротив само предлагает им (устами Лядова) два места из трех в протокольной комиссии (стр. 354). Возьмите резолюции по тактическим и другим вопросам (стр. 355 и след.) и вы увидите чисто деловое обсуждение по существу, когда подписи товарищей, вносивших резолюции, зачастую показывают вперемежку и представителей чудовищного компактного «большинства», и сторонников «униженного и оскорбленного» «меньшинства» (стр. 355, 357, 363, 365, 367 прот.). Не правда ли, как это похоже на «отстранение от работы» и иное всякое «заезжание»?
Единственный интересный, но, к сожалению, слишком краткий спор по существу возник по поводу староверовской резолюции о либералах. Она была принята съездом, как можно судить по подписям под ней (стр. 357 и 358), потому, что трое сторонников «большинства» (Браун, Орлов, Осипов) вотировали и за нее и за плехановскую резолюцию, не усматривая непримиримого противоречия между обеими. Непримиримого противоречия, на первый взгляд, между ними нет, ибо плехановская устанавливает общий принцип, выражает определенное принципиальное и тактическое отношение к буржуазному либерализму в России, а староверовская пытается определить конкретные условия допустимости переменных соглашений» с «либеральными или либерально-демократическими течениями». Темы обеих резолюций разные. Но староверовская страдает именно политической расплывчатостью, будучи в силу этого мелкой и мелочной. Она не определяет классового содержания русского либерализма, она не указывает определенных политических течений, выражающих его, она не разъясняет пролетариату его основных задач пропаганды и агитации в отношении к этим определенным течениям, она смешивает (в силу своей расплывчатости) такие различные вещи, как студенческое движение и «Освобождение», она слишком мелочно, казуистически предписывает три конкретных условия, при которых допустимы «временные соглашения». Политическая расплывчатость и в этом случае, как и во многих других, ведет к казуистичности. Отсутствие общего принципа и попытка перечислить «условия» ведет к мелочному и, строго говоря, неправильному указанию этих условий. В самом деле, посмотрите на эти три староверовских условия: 1) «либеральные или либерально-демократические течения» должны «ясно и недвусмысленно заявить, что в своей борьбе с самодержавным правительством они становятся решительно на сторону российской социал-демократии». В чем состоит отличие либеральных и либерально-демократических течений? Резолюция не дает никакого материала для ответа на этот вопрос. Не в том ли, что либеральные течения выражают позицию наименее прогрессивных политически слоев буржуазии, а либерально-демократические – позицию наиболее прогрессивных слоев буржуазии и мелкой буржуазии? Если да, то неужели т. Старовер считает возможным, что наименее прогрессивные (но все же прогрессивные, ибо иначе нельзя было бы говорить о либерализме) слои буржуазии «встанут решительно на сторону социал-демократии»?? Это абсурд, и если представители такого течения даже и «заявили бы это ясно и недвусмысленно» (предположение совершенно невозможное), то мы, партия пролетариата, обязаны были бы не верить их заявлениям. Быть либералом и становиться решительно на сторону социал-демократии, – одно исключает другое.
Далее. Допустим такой случай, что «либеральные или либерально-демократические течения» ясно и недвусмысленно заявят, что в своей борьбе с самодержавием они становятся решительно на сторону социалистов-революционеров. Предположение это гораздо менее невероятно (в силу буржуазно-демократической сущности направления социалистов-революционеров), чем предположение тов. Старовера. По смыслу его резолюции, в силу ее расплывчатости и казуистичности, выходит, что в таком случае временные соглашения с подобными либералами недопустимы. Между тем, этот неизбежный вывод из резолюции т. Старовера приводит к положению прямо неверному. Временные соглашения допустимы и с социалистами-революционерами (см. резолюцию съезда о них), а следовательно, и с либералами, которые встали бы на сторону социалистов-революционеров.
Второе условие: если эти течения «не выставят в своих программах требований, идущих вразрез с интересами рабочего класса и демократии вообще или затемняющих их сознание». И тут та же ошибка: не бывало и быть не может таких либерально-демократических течений, которые бы не выставляли в своих программах требований, идущих вразрез с интересами рабочего класса и не затемняли его (пролетариата) сознание. Даже одна из самых демократических фракций нашего либерально-демократического течения, фракция социалистов-революционеров, выставляет в своей программе, запутанной, как и все либеральные программы, требования, идущие вразрез с интересами рабочего класса и затемняющие его сознание. Из этого факта следует выводить необходимость «разоблачать ограниченность и недостаточность освободительного движения буржуазии», но отнюдь не недопустимость временных соглашений.
Наконец, и третье «условие» тов. Старовера (чтобы лозунгом своей борьбы либералы-демократы сделали всеобщее, равное, тайное и прямое избирательное право) неправильно в той общей постановке, которая ему придана: временные и частные соглашения неразумно было бы объявлять ни в каком случае недопустимыми с такими либерально-демократическими течениями, которые выставляли бы лозунг цензовой конституции, «куцой» конституции вообще. В сущности, именно сюда подошло бы «течение» гг. «освобожденцев», но связывать себе руки, запрещая наперед «временные соглашения», хотя бы и с самыми робкими либералами, было бы политической близорукостью, несовместимой с принципами марксизма.
Итог: резолюция тов. Старовера, подписанная также тт. Мартовым и Аксельродом, ошибочна, и третий съезд поступит разумно, если отменит ее. Она страдает политической расплывчатостью теоретической и тактической позиции, казуистичностью – практических «условий», требуемых ею. Она смешивает два вопроса: 1) разоблачение «антиреволюционных и противопролетарских» черт всякого либерально-демократического течения и обязательность борьбы с этими чертами и 2) условие временных и частных соглашений с любым из таких течений. Она не дает того, что надо (анализа классового содержания либерализма), и дает то, чего не надо (предписание «условий»). На партийном съезде вообще нелепо вырабатывать конкретные «условия» временных соглашений, когда нет налицо даже определенного контрагента, – субъекта таких возможных соглашений; да если бы и был таковой «субъект» налицо, то во сто раз рациональнее было бы предоставить определение «условий» временного соглашения центральным учреждениям партии, как это и сделано съездом по отношению к «течению» гг. социалистов-революционеров (см. плехановское видоизменение конца резолюции тов. Аксельрода, стр. 362 и 15 протоколов).
Что касается до возражений «меньшинства» против резолюции Плеханова, то единственный довод т. Мартова гласил: резолюция Плеханова «кончает мизерным выводом: надо разоблачать одного литератора. Не будет ли это – идти «на муху с обухом»?» (стр. 358). Довод этот, в котором отсутствие мысли прикрывается хлестким словечком – «мизерный вывод», – дает нам новый образчик претенциозной фразы. Во-первых, резолюция Плеханова говорит о «разоблачении перед пролетариатом ограниченности и недостаточности освободительного движения буржуазии всюду, где бы ни проявилась эта ограниченность и недостаточность». Поэтому чистейшими пустяками является утверждение тов. Мартова (на съезде Лиги, стр. 88 протоколов), что «все внимание должно быть обращено на одного Струве, одного либерала». Во-вторых, сравнивать господина Струве с «мухой», когда речь идет о возможности временных соглашений с русскими либералами, значит приносить в жертву хлесткости элементарную политическую очевидность. Нет, г. Струве не муха, а политическая величина, и он является таковой не потому, чтобы он лично был очень крупной фигурой. Значение политической величины дает ему его позиция, позиция единственного представителя русского либерализма, хоть сколько-нибудь дееспособного и организованного либерализма, в нелегальном мире. Поэтому говорить о русских либералах и об отношении к ним нашей партии и не иметь в виду именно г. Струве, именно «Освобождения» – значит говорить, чтобы ничего не сказать. Или, может быть, тов. Мартов попробует указать нам хоть одно единственное «либеральное или либерально-демократическое течение» в России, которое хоть отдаленно могло бы сравниться в настоящее время с «освобожденским» течением? Интересно было бы посмотреть на такую попытку![126]
«Имя Струве ничего не говорит рабочим», – поддерживал т. Костров тов. Мартова. Это уже довод, не во гнев будь сказано т. Кострову и т. Мартову, – акимовский. Это уже вроде пролетариата в родительном падеже{110}.
Каким рабочим «ничего не говорит имя Струве» (и имя «Освобождения», названного в резолюции т. Плеханова рядом с именем г. Струве)? Таким, которые до последней степени мало знакомы или вовсе незнакомы с «либеральными и либерально-демократическими течениями» в России. Спрашивается, в чем должно состоять отношение нашего партийного съезда к таким рабочим: в том ли, чтобы поручить членам партии знакомить этих рабочих с единственным определенным либеральным течением в России? или в том, чтобы умалчивать об мало знакомом для рабочих имени по случаю собственно их малого знакомства с политикой? Если т. Костров, сделав первый шаг за т. Акимовым, не захочет сделать и второго шага за ним, то он наверное решит этот вопрос в первом смысле. А решив его в первом смысле, он увидит, как несостоятелен был его довод. Во всяком случае слова: «Струве» и «Освобождение» в плехановской резолюции во много раз больше могут дать рабочим, чем слова: «либеральное и либерально-демократическое течение» в резолюции Старовера.
Русский рабочий не может в настоящее время ознакомиться на практике с сколько-нибудь откровенными политическими тенденциями нашего либерализма иначе, как по «Освобождению». Легальная либеральная литература негодна тут именно в силу ее туманности. И мы должны как можно усерднее (и перед возможно более широкими массами рабочих) направлять оружие своей критики против освобожденцев, чтобы в момент грядущей революции русский пролетариат мог настоящей критикой оружия парализовать неизбежные попытки гг. освобожденцев урезать демократический характер переворота.
* * *
Кроме отмеченного мною выше «недоумения» тов. Егорова по вопросу о «поддержке» нами оппозиционного и революционного движения, прения о резолюциях не дали интересного материала, да и прений почти не было.
* * *
Съезд закончился кратким напоминанием председателя об обязательности постановлений съезда для всех членов партии.







