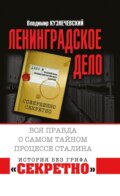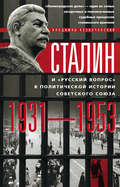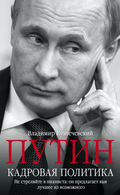Владимир Кузнечевский
Эпоха Владимира Путина. К вопросу об исторической миссии второго президента России
Пока можно лишь согласиться с тем, что в настоящее время наша страна действительно переживает этап если не революционный, то, во всяком случае, судьбоносный, чреватый переходом к новой парадигме российского социального государства. Каким конкретно итогом может завершиться этот переход – сегодня не знает никто: ни правящие ныне элиты, ни внутренняя оппозиция, ни экспертное сообщество, ни, судя по всему, и сам автор «эпохи Путина», потому что для того, чтобы построить это новое социальное государство, нужно, как минимум, сформулировать его концептуальную модель.
Пока у нас этой теории нет. Как признал перед президентскими выборами 2018 года Гавриил Попов, пока в России с этой задачей не под силу справиться никому. «Патриоты, – написал он, – пошли на разрыв с западничеством. Но – не найдя для себя пророков – не смогли предложить России реформы по замене постиндустриализма номенклатурно-олигархического на постиндустриализм прогрессивный, демократический и народный. Ведь даже самая прогрессивная бюрократия не может создать модель радикальных перемен. Это наглядно демонстрирует один из лучших российских бюрократов Кудрин, которому поручено создавать проект будущего. Российская бюрократия пытается сидеть на двух стульях. Как удачно выразился Зюганов: на патриотическом и олигархическом… Главный урок всей российской истории – модель будущего – могут разработать только стоящие вне системы пассионарные пророки»[14].
Вот с целью помочь разобраться с этой проблемой и выяснить, чем могут помочь нашему народу в этом плане достижения и ошибки «эпохи Путина», сегодня и после 2024 года, и написана настоящая книга.
Глава 1
Историю творит народ, но изменяется она под воздействием исторических личностей
Никогда, наверное, русское образованное общество (интеллигенция?) не научится трезво и по достоинству, по действительным их способностям и качествам оценивать своих выдающихся политических лидеров. Неуемно льстить в глаза формальному лидеру нации, навешивать на его праздничный пиджак по три Звезды Героя Социалистического Труда (как Хрущеву, когда он возглавлял правящую Коммунистическую партию) или даже пять таких «Золотых Звезд» (как Брежневу) – это мы можем. А вот остановиться в этом неуемном верноподданническом рвении – с этим у нас всегда было очень напряженно.
К большому сожалению, привычка эта, истоки которой восходят, наверное, еще ко времени крепостного (рабского по сути) права на Руси, нередко проявляется и в наше время. Опасаюсь, что не избавимся мы от этой привычки и после 2024 года. Вот объявил в декабре 2017 года президент РФ свое решение об участии в президентских выборах-2018, и уже 19 декабря руководство Общероссийского народного фронта объявило, что через неделю соберется на ВДНХ так называемая инициативная группа по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты РФ для сбора 300 тысяч индивидуальных подписей.
Количественный состав этой группы определен в 600 человек. Уже и людей многих назвали, кто должен войти в эту инициативную группу: ученые, врачи, телеведущие, актеры, журналисты, деятели культуры, рабочие от станка, представители бюрократии всех 85 регионов и т. д., легче перечислить тех, кто не войдет в этот орган, и можно представить себе, какая была очередь из тех, кто, образно говоря, толкаясь локтями, хотел войти в эту группу, но не сумел.
Сильно все это напомнило мне 1949 год, когда Москва помпезно готовилась отмечать 70-летний юбилей Иосифа Сталина. Инициатива лизоблюдов из ЦК ВКП(б) и правительства била не ключом, а бурлила рекой, и дошло до того, что было предложено учредить орден и юбилейную медаль, особую Государственную премию имени Сталина и еще много чего.
В итоге «доработались» в своем раболепии до того, что и самого Сталина перепугали масштабностью своих замыслов и инициатив и тот в приказном порядке закрыл весь этот поток хвалоспевок.
Не могу освободиться от мысли: а Путину-то это зачем? Авторитет его в обществе настолько велик, что он совершенно не нуждается в раскручивании такой помпезности вокруг своей личности. Достаточно было бы команды из двух-трех десятков способных «фронтовиков-организаторов», и через две-три недели были бы собраны не 300 тысяч подписей, а много больше. Но тем не менее газеты, радио и телевидение обрушили на общественность такой поток патоки в адрес главы государства, что децибелы зашкаливают. А попробовали бы вы найти в нашей прессе в эти дни спокойный, трезвый и глубокий анализ деятельности нашего нынешнего национального лидера. Я попробовал. Нашел. Но не у нас. За рубежом. Редактор издающегося в Нью-Йорке американского аналитического журнала консервативной направленности «Наблюдатель», через два года после пребывания Путина у власти, когда весь западный мир еще мучился вопросом «Кто вы, мистер Путин?», написал в редакционной колонке: «Ничто во Владимире Путине не предполагало, что он подходит для президентской работы. Многие считали, что его лидерство будет просто переходным этапом на пути России к хаосу и забвению. Но через два года весь этот пессимизм пропал. Путин вырос до уровня своей работы и продолжает расти. Он был самым неподходящим сырьем для занятия поста руководителя государства, однако более чем вероятно, что он запомнится как одна из самых успешных фигур нашего времени. Он может оказаться лучшим правителем, когда-либо руководившим Россией…»[15]
Невольно вспоминается, как очень тонкий и глубокий наблюдатель народной жизни Иван Сергеевич Тургенев в свои «Записки охотника» занес поразившую его фразу: с завистью, а может быть, с тоской простой крестьянин сказал заезжему столичному охотнику: «Иностранцу хорошо, иностранец он и у себя дома – иностра-а-анец!»
Думаю, всем понятно, что именно хотел, но не сумел точно выразить этот житель сельской местности центральной полосы России, как и то, почему Тургенев занес услышанное в свой дневник.
В наше время те люди, кого современная образованная публика полупренебрежительно называет «простым народом», выражают свое отношение к настоящему национальному лидеру кратко, но гораздо энергичнее, чем тот, тургеневский, крестьянин, оказывая абсолютную поддержку политическому курсу своего президента. И для того чтобы убедить людей поддержать политический курс главы государства, вряд ли необходимо было собирать такую громоздкую команду из нескольких сот агитаторов.
Но это a propos. А если говорить по делу, то надо, наверное, признать, что во все времена человеческой цивилизации в период исторических тектонических сдвигов роль национального политического лидера обретает особую значимость. От его поведения часто в решающей степени может зависеть исход (результат) этих сдвигов. Он своими действиями может замедлить течение политических (и других) событий, может их ускорить, а может и вообще приостановить, приведя общество в состояние застоя, как это было с нашей страной в период 1964–1982 годов, когда во главе Советской державы находился Леонид Брежнев. Можно сказать и более того: историю в собственном смысле делает, конечно, народ, но в определенные моменты истории деятельность того или иного выдающегося политика может кардинальным образом изменить и судьбу самого народа. Особенно богат на такие ситуации XX век.
Примеров тому немало. Сошлюсь на близкий нам по времени.
Вот существовало в Европе с 1945 по 1991 год мощное государство Югославия (Социалистическая Федеративная Республика Югославия). Управлял этим многонациональным государством родившийся в 1892 году в Австрии хорватский еврей, член Югославской компартии, в 1930-х годах член Коминтерна Иосип Броз, вошедший в историю под партийной кличкой Тито. В 1941 году он возглавил вооруженное сопротивление немцам на территории Королевства сербов, хорватов и словенцев и довел эту свою борьбу до победного 1945 года. Под его руководством Югославия превратилась в самую крупную и самую развитую во всех отношениях страну на Балканах (256 тысяч квадратных километров по площади, с 24 млн человек населения). Среднегодовые темпы роста валового внутреннего продукта были стабильно на уровне 8–9 %. По уровню ВВП на душу населения страна занимала 27-е место в мире и опережала Австрию, Венгрию, Грецию, Румынию, Болгарию.
Сам Тито вместе с лидером Индии Джавахарлалом Неру создал и возглавил Международное движение неприсоединения и выдвинулся в число выдающихся государственных и политических деятелей XX века. Казалось бы, жить да жить этой стране в общей семье народов европейских стран. Но в мае 1980 года на 89-м году жизни Тито покидает земную юдоль. На смену ему приходит сербский политический лидер Слободан Милошевич. В Югославии возникает межэтническая война, в ход которой немедленно вмешиваются США. Страна распадается на шесть независимых республик. А весной 1999 года США и НАТО подвергли Югославию массовым ударам бомбардировочной авиации и ввели в автономный сербский край Косово войска НАТО. Богатая и красивая страна Югославия перестала существовать.
Но это – история. А я хотел бы обратить внимание читателя вот на что.
Много лет занимаюсь изучением политической истории Югославии предвоенного, военного и послевоенного времени. Сам прожил там большой отрезок своей жизни, защитил кандидатскую и докторскую диссертации по социально-политической истории Югославии, опубликовал ряд книг по этой проблематике. Довелось лично знать практически весь руководящий состав этой страны, включая и ее бывшего лидера Иосипа Броз Тито.
Так вот, могу с почти стопроцентной уверенностью утверждать: если бы в марте 1999 года во главе этой красивой уникальной страны все еще находился всемирно признанный политический лидер всего так называемого Международного движения неприсоединения, при появлении которого на трибуне Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций многие лидеры других государств считали необходимым встать со своих мест, Иосип Броз Тито, то в марте 1999 года ни НАТО, ни США, ни уж тем более их сателлиты (Англия, Франция, Германия) ни за какие коврижки не решились бы бомбить территорию Югославии, потому что одержать над ней победу военным путем было бы невозможно. Не смогли бы США и НАТО одолеть созданную Тито Югославскую народную армию. Да и, кроме того, мировое общественное мнение однозначно встало бы на сторону Тито и Югославии и подвергло бы уничтожающему остракизму правительство США и руководство НАТО.
Пример этот куда как рельефно показал, какая историческая судьба может ждать тот или иной народ, если во главе его встает талантливый политический лидер, и какая – если этот лидер уходит из жизни или из сферы политики, не озаботившись вопросом преемственности своего политического наследства. Вопрос с политической точки зрения всегда обладал судьбоносной важностью, а для нас так после 2024 года обещает стать еще и очень злободневным. А потому не лишне порассуждать и о том, почему не у всех политических лидеров, считающих себя историческими личностями, получается ими быть. Вот типичная на этот счет ситуация и даже казус.
Летом 2013 года международное сообщество узнало, что сбежавший из США сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден предоставил английской газете The Guardian и американской The Washington Post секретные документы АНБ, доказывающие, что американские спецслужбы каждодневно прослушивали мобильные телефоны практически всех европейских политических лидеров, и в том числе – федерального канцлера ФРГ. Весь мир облетели кадры, показывавшие, как обескураженная Ангела Меркель вертит в ладонях свой мобильный телефон. В Германии разразился вселенский скандал, озадаченная и возмущенная немецкая общественность требовала от правительства страны провести расследование этого факта и сатисфакции от правительства США. Делу был дан официальный ход. Но 12 мая 2015 года Генеральная прокуратура Германии сообщила, что она прекратила расследование, поскольку не усмотрела в этом факте нарушения законодательства Германии.
А далее немецкий обыватель понял, что Федеративная республика Германия представляет собой, конечно, самое крупное и мощное государство Европы, но совсем не великую державу по международным меркам. Соответственно и Федеральный канцлер ФРГ А. Меркель представляет собой крупного германского государственного деятеля, но… далеко не такого, кого можно было бы отнести к великим историческим личностям мирового масштаба.
Случай со Сноуденом выявил, что не был деятелем мирового масштаба и основатель ФРГ Конрад Аденауэр, которого немцы до сих пор считают отцом новой нации после Второй мировой войны. Если бы расследование Генеральной прокуратурой было доведено до конца и предано огласке, то выяснилось бы, что самое мощное на сегодняшний день в экономическом отношении европейское государство продолжает оставаться всего лишь оккупированной Соединенными Штатами страной.
Для того чтобы уяснить причины возникшей ситуации до конца, нам придется от 2013 года сдвинуться в историческую действительность 1949 года.
Обстановка на трех четвертях территории бывшей гитлеровской Германии, оккупированной США, Англией и Францией, была в тот год очень сложной не только в плане разгоравшейся холодной войны между США и СССР. Страна лежала в руинах, промышленное производство составляло всего 33 % от довоенного уровня, национальные политические силы на территории Западной Германии настойчиво требовали от США разрешения на создание немецкого государства, но Вашингтон не шел на это. Наконец в апреле 1949 года американцы согласились на такой шаг, но выставили ультимативное требование: США разрешат создание немецкого государства на территории западных оккупационных зон, но только при условии, что эта территория до конца XX века будет юридически считаться оккупационной зоной Соединенных Штатов Америки, для чего организованные германские политические силы, и в частности созданный в 1946 году Христианско-демократический союз, должны подписать соответствующие государственный договор.
Немцы упирались, но недолго. У них нашелся политический лидер, который ради возрождения страны после катастрофы 1945 года взял на себя ответственность за будущее немецкой нации и согласился сочиненный в Вашингтоне договор подписать. Этим человеком стал занимавший в догитлеровское время должность обер-бургомистра Кёльна (в 1917–1933 гг.), основатель (в 1946 г.) Христианско-демократического союза Конрад Аденауэр (1876–1967).
21 мая 1949 года в Бонне в обстановке строжайшей секретности между правительством США и германской стороной был подписан тайный государственный договор. Документ получил название канцлер-акт, представляющий, так сказать, если вспомнить Русь времен монголо-татарского нашествия, своего рода ярлык на княжение.
В соответствии с этим договором за США закреплялось «право на осуществление полного контроля за немецкими средствами массовой информации вплоть до 2099 года», включение, до этой даты, всех немецких спецслужб в организационную структуру спецслужб США на условиях полного организационного подчинения первых вторым, перевод золотого запаса будущего немецкого государства на хранение на территорию США (где он, кстати сказать, и без того пребывал после 1945 года и где находится и поныне). Договор особо оговаривал, что каждый вступающий в должность федеральный канцлер Германии перед принятием присяги на служение германскому народу должен сначала подписать этот акт[16], чем официально засвидетельствовать как свое личное подчиненное по отношению к Госдепу США и президенту США положение, так и вассальную зависимость от США германского государства.
Лишь после этого в сентябре 1949 года Вашингтон разрешал создать западногерманское государство – Федеративную Республику Германию, канцлером которой стал, предварительно подписав канцлер-акт, 73-летний Конрад Аденауэр. На пенсию с этой должности немцы отпустили его только через четырнадцать лет, в 1963 году.
«Сила вещей»
Как уже было сказано в названии настоящей главы, Историю, конечно, творит народ, но изменяется она под непосредственным воздействием национальных лидеров, которые в ходе политических процессов дорастают до масштабов исторических личностей. Не всякому национальному лидеру выпадает стать фигурой такого масштаба. Из текста предыдущего раздела становится понятно, что Иосип Тито такой фигурой был, а Ангела Меркель – нет, хотя с 2005 года германский бундестаг трижды назначал ее Федеральным канцлером. Нужно, по-видимому, что-то еще, чтобы из формального лидера своей нации превратиться в действительно историческую личность. И дело совсем не в народной популярности, или, как сейчас принято говорить, в высоких имиджевых политических рейтингах.
В 2017 году в Германии проходили выборы в национальный парламент. Еще в январе рейтинг А. Меркель зашкаливал за 68 % народной поддержки, и ни у кого не было сомнений, в том числе и у нее самой, что ее политическая партия (ХДС – ХСС) наберет необходимое число голосов и Меркель в четвертый раз с триумфом въедет в ставший уже ей привычным за 12 лет кабинет Федерального канцлера на 8-м этаже здания ведомства Федерального канцлера на излучине реки Шпрее. Но прошедшие в сентябре выборы выявили, что возглавлявшийся Ангелой Меркель союз ХДС – ХСС получил самую низкую за полвека поддержку избирателей – 33 % и не позволил ей сформировать собственное правительство.
Провалили немцы и партию социал-демократов, СДПГ набрала самый худший за всю свою политическую историю результат – 20 %.
Немецкий народ куда как убедительно показал, что через 50 лет после ухода из жизни 91-летнего Конрада Аденауэра в Германии вообще нет такой политической фигуры, которой немцы хотели бы вручить свое настоящее и будущее.
Можно сказать и больше – после ухода из жизни в 1970 году президента Франции Шарля де Голля нет такой исторической фигуры и вообще в Европе. По-видимому, для того, чтобы такой фигурой стать, недостаточно просто занимать высшую государственную должность, иметь высокий рейтинг в глазах национальных избирателей и высоко котироваться в глазах международного общественного мнения. Нужно что-то. То, что невозможно измерить видимыми глазом политическими инструментами. Ответ на этот вопрос давно уже пытались получить многие лучшие умы человечества.
В научном плане дискуссии по этому поводу не прекращаются со времен Никколо Макиавелли (1469–1527), с момента выхода в свет его знаменитого произведения «Государь» (1513). Вопрос этот очень сильно занимал Г.-В.-Ф. Гегеля («Философия истории», 1831–1816), Фридриха Ницше («Так говорил Заратустра», 1881–1885), Г.В. Плеханова («К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», 1895), других европейских мыслителей.
Что касается основоположника изучения этой проблемы в научном плане, то особый интерес даже для современного читателя представляет собой работа Макиавелли «Жизнь Каструччо Кастракани из Лукки», написанная им через семь лет после «Государя», ровно перед возвращением его на государственную службу, в июле – августе 1520 года, в конце его восьмилетней ссылки, которую Сергей Сергеевич Аверинцев (1937–2004), один из крупнейших советских, российских и мировых культурологов, считал, по аналогии с пушкинской, по творческим результатам своего рода «болдинской осенью». Ценна эта работа, в плане рассматриваемой нами темы, прежде всего тем, что этот первый в истории политической науки политолог, говоря современным языком, сформулировал догадку о том, что великие исторические личности в состоянии изменять историю, но и они осуществляют это не столько по своей воле, сколько в силу довлеющего над ними рока, для обозначения которого Макиавелли не нашел определенного слова и назвал просто «природой».
«Все или большая часть тех, кто свершил в этом мире деяния величайшие и между всеми своими современниками достиг положения высокого», считал он, достиг этого «оттого, что природа, желая доказать, что великими делает людей она, а не благоразумие, начинает показывать свои силы в такой момент, когда благоразумие не может играть никакой роли, и становится ясно, что люди всем обязаны именно ей»[17].
Только через 200 с лишним лет эту линию продолжил русский мыслитель Александр Сергеевич Пушкин, а еще через 40 лет после него – другой наш гений Лев Николаевич Толстой. И оба они, не сговариваясь (а как они могли «сговориться», если их жизни разделяли несколько десятков лет?), нашли для этого явления один и тот же термин – «сила вещей».
Выражение это означает, что даже от великой исторической личности нельзя требовать больше того, что она в состоянии сделать в данный момент, а точнее – что позволяют ей сделать обстоятельства, в которых она вынуждена действовать. Эта максима призывает адекватно оценивать деятельность исторической личности, выказывать ей пиетет, но не требовать от нее того, что она сделать не в состоянии (Гегель пишет: по собственной воле или произволу), поскольку сама она не всегда вольна в своих действиях.
А.С. Пушкин, как уже сказано, называл эти довлеющие над человеком обстоятельства «силою вещей».
Поэт, похоже, чисто интуитивно нащупал эту безликую силу обстоятельств, довлеющую над исторической личностью, и не оставил нам разработку этой темы, но, если судить по черновым наброскам к некоторым его произведениям, как в стихах, так и в прозе, находка эта захватила его. Еще в 1826 году, когда по наказу Николая I он работал над запиской «О народном воспитании», поэт пришел к выводу о том, что существует некая сила обстоятельств, над действием которой не властен никто: ни царь, ни общество, ни даже Бог. Тема эта сильно волновала Александра Сергеевича, и он постоянно возвращался к ней. В 1827 году в черновых набросках письма к А. Вульфу Пушкин пишет: «Политические изменения, вынужденные у других народов силою обстоятельств и долговременным приготовлением (но у нас еще не требуемые ни духом народа, ни общим мнением, еще не существующим, ни самой силой вещей), вдруг сделались у нас предметом замыслов и злонамеренных усилий».
В 1831 году поэт вновь возвращается к этой находке и вводит ее в сожженную им впоследствии десятую главу «Евгения Онегина». В уцелевших строфах этой главы можно прочесть его размышления о так и оставшихся для него нераскрытой тайной подлинных причинах русской победы над Наполеоном: «Гроза двенадцатого года / Настала – кто тут нам помог? / Остервенение народа, / Барклай, зима иль русский Бог? // Но Бог помог – стал ропот ниже. / И скоро силою вещей / Мы очутилися в Париже, / А русский царь – главой царей».
Как уже сказано выше, вслед за ним и независимо от него другой русский гений пришел к выводу о том, что есть сила выше человеческой воли, даже если речь идет об исторической личности.
Подробно описывая мучительные размышления фельдмаршала Кутузова после Бородинского сражения о том, кто же все-таки победил в этом сражении, Толстой показывает, что по субъективным ощущениям главнокомандующий русским войском был уверен, что сражение выиграно русскими, а значит – сражение следует продолжить. И уж, во всяком случае, и речи быть не может о том, чтобы сдать неприятелю Москву. Но сила вещей заставила Кутузова сделать именно то, чего он и не предполагал, и не хотел.
«В вечер 26 августа, – читаем мы в великом романе, – Кутузов и вся русская армия были уверены, что Бородинское сражение выиграно. Кутузов так и писал государю. Кутузов приказал готовиться на новый бой, чтобы добить неприятеля не потому, чтобы он хотел кого-нибудь обманывать, но потому, что он знал, что враг побежден, так же как знал это каждый из участников сражения.
Но в тот же вечер и на другой день стали, одно за другим, приходить известия о потерях неслыханных, о потерях половины армии, и новое сражение оказалось физически невозможным.
Нельзя было давать сражения, когда еще не собраны были сведения, не убраны раненые, не пополнены снаряды, не сочтены убитые, не назначены новые начальники на места убитых, не наелись и не выспались люди.
А вместе с тем сейчас же после сражения, на другое утро, французское войско (по той стремительной силе движения, увеличенного теперь как бы в обратном отношении квадратов расстояний) уже надвигалось само собой на русское войско. Кутузов хотел атаковать на другой день, и вся армия хотела этого. Но для того, чтобы атаковать, недостаточно желания сделать это; нужно, чтобы была возможность это сделать, а возможности этой не было. Нельзя было не отступить на один переход, потом точно так же нельзя было не отступить на другой и на третий переход, и наконец, 1 сентября, – когда армия подошла к Москве, – несмотря на всю силу поднявшегося чувства в рядах войск, сила вещей требовала того, чтобы войска эти шли на Москву. И войска отступили еще на один, на последний переход и отдали Москву неприятелю»[18].