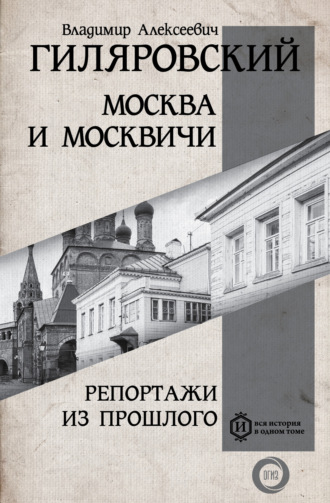
Владимир Гиляровский
Москва и москвичи. Репортажи из прошлого
Мне было пятнадцать лет, выглядел я по сложению много старше. И вот как-то раз, ловким обычным приемом, я перебросил через голову боровшегося со мной толстяка Обнорского, и он, вставая, указал на меня:
– Вот он, живой Никитушка Ломов!
– Ушкуйник! – сказал Васильев.
А ушкуйником меня прозвали в гимназии по случаю того, что я в прошлом году убил медведя.
Вышло это так. Осенью мне удалось убить из-под гончих на охоте у Разнатовского матерого волка.
Ясно, что после волка захотелось и медведя убить. Я к нему, прошу его:
– Дядя Коля, возьми меня на медведя!
– Да ты с ума сошел? А что наши-то скажут?
Дядя по своему обыкновению выругался, прошелся раза два по комнате и сказал:
– Ладно. Про медведя молчи, а я скажу им, что мы в субботу на лосей едем, а у меня в Домшине берлоги обложены.
* * *
Мы долго ехали на прекрасной тройке во время вьюги, потом в какой-то деревушке, не помню уж названия, оставили тройку, и мужик на розвальнях еще верст двенадцать по глухому бору тащил нас до лесной сторожки, где мы и выспались, а утром, позавтракав, пошли. Дядя мне дал свой штуцер, из которого я стрелял не раз в цель.
Долго, помню, шли мы на лыжах по старому лыжному следу. Наконец остановились у целой горы бурелома. Место кругом было заранее вытоптано, так что можно ходить без лыж. Меня поставили близ толстой сосны, как раз шагах в восьми от вывороченного и занесенного снегом корня дерева. Под ним-то и была берлога. Дядя стал правее, левее помещик-охотник Ираклион Корчагин, а сзади меня, должно быть для моей безопасности, Китаев с рогатиной в руках и ножом за поясом. Когда все было готово, лесник влез на кучу бурелома и начал тыкать длинным шестом под коренья вывороченной вековой ели. Сначала щелкнули взводы курков… Потом дядя, улыбаясь, сказал мне:
– Смотри целься в лопатку, не промахнись, – это твой медведь, целься, не горячись.
– Не зевай, – мигнул мне Корчагин.
Вдруг под снегом раздалось рычанье, а потом рев… Лесник, упершись шестом в снег, прямо с дерева перепрыгнул к нам на утоптанное место. В тот же момент из-под снега выросла почти до половины громадная фигура медведя. Я, не отдавая себе отчета, прицелился и спустил оба курка.
Гром выстрела и страшный рев… Я стоял, облокотясь о сосну, ни жив ни мертв и сразу ничего не видел сквозь дым.
– Браво, молодец! Наповал! – послышался голос дяди, а из берлоги рявкнул Китаев:
– Есть!
Когда он успел туда прыгнуть, я и не видал. А медведя не было, только виднелась громадная яма в снегу, из которой шел легкий пар, и показалась спина и голова Китаева. Разбросали снег, Китаев и лесник вытащили громадного зверя, в нем было, как сразу определил Китаев, и, оказалось, верно, – шестнадцать пудов. Обе пули попали в сердце. Меня поздравляли, целовали, дивились на меня мужики, а я все еще не верил, что именно я, один я, убил медведя!
Но зато ни один триумфатор не испытывал того, что ощущал я, когда ехал городом, сидя на санях вдвоем с громадным зверем и Китаевым на козлах. Около гимназии меня окружили товарищи, расспросам конца не было, и потом как я гордился, когда на меня указывали и говорили: «Медведя убил!» А учитель истории Н. Я. Соболев на другой день, войдя в класс, сказал, обращаясь ко мне:
– Здравствуй, ушкуйник! Поздравляю!
Так и пошло – ушкуйник. Да только ненадолго!
Ушкуйник-то ушкуйником, а вот кто такой Никитушка Ломов – заинтересовало меня. Когда я спросил об этом Николая Васильева, то он сказал мне: «Погоди, узнаешь!» И через несколько дней принес мне запрещенную тогда книгу Чернышевского «Что делать?».
Я зачитался этим романом. Неведомый Никитушка Ломов, Рахметов, который пошел в бурлаки и спал на гвоздях, чтобы закалить себя, стал моей мечтой, моим вторым героем. Первым же героем все-таки был матрос Китаев.
* * *
Матрос Китаев. Впрочем, это было только его деревенское прозвище, данное ему по причине того, что он долго жил в бегах в Японии и в Китае. Это был квадратный человек, как в ширину, так и вверх, с длинными, огромными обезьяньими ручищами и сутулый. Ему было лет шестьдесят, но десяток мужиков с ним не мог сладить: он их брал, как котят, и отбрасывал от себя далеко, ругаясь неистово не то по-японски, не то по-китайски, что, впрочем, очень смахивало на некоторые и русские слова.
Я смотрел на Китаева как на сказочного богатыря, и он меня очень любил, обучал гимнастике, плаванию, лазанью по деревьям и некоторым невиданным тогда приемам, происхождение которых я постиг десятки лет спустя, узнав тайны джиу-джитсу. Я, начитавшись Купера и Майн Рида, был в восторге от Китаева, перед которым все американские герои казались мне маленькими. И действительно, они били медведей пулей, а Китаев резал их один на один ножом. Намотав на левую руку овчинный полушубок, он выманивал, растревожив палкой, медведя из берлоги, и когда тот, вылезая, вставал на задние лапы, отчаянный охотник совал ему в пасть с левой руки шубу, а ножом в правой руке наносил смертельный удар в сердце или в живот.
Мы были неразлучны. Он показывал приемы борьбы, бокса, клал на ладонь, один на другой, два камня и ударом ребра ладони разбивал их или жонглировал бревнами, приготовленными для стройки сарая. По вечерам рассказывал мне о своих странствиях вокруг света, о жизни в бегах в Японии и на необитаемом острове. Не врал старик никогда. И к чему ему врать, если его жизнь была так разнообразна и интересна! Многое, конечно, из его рассказов, так напоминавших Робинзона, я позабыл. Бытовые подробности японской жизни меня, тогда искавшего только сказочного героизма, не интересовали, а вот историю его корабельной жизни и побега я и теперь помню до мелочей, тем более что через много лет я встретил человека, который играл большую роль в судьбе Китаева во время самого разгара его отчаянной жизни.
Надо теперь пояснить, что Китаев был совсем не Китаев, а Василий Югов, крепостной, барской волей сданный не в очередь в солдаты и записанный под фамилией Югов в честь реки Юг, на которой он родился. Тогда вологжан особенно охотно брали в матросы. Васька Югов скоро стал известен как первый силач и отчаянная голова во всем флоте. При спуске на берег в заграничных гаванях Васька в одиночку разбивал таверны и уродовал в драках матросов иностранных кораблей, всегда счастливо успевая спасаться и являться иногда вплавь на свой корабль, часто стоявший в нескольких верстах от берега на рейде. Ему всыпали сотни линьков, гоняли сквозь строй, а при первом отпуске на берег повторялась та же история с эпилогом из линьков – и все как с гуся вода.
Так рассказывал Китаев:
– Бились со мной, бились на всех кораблях и присудили меня послать к Фофану на усмирение. Одного имени Фофана все, и офицеры и матросы, боялись. Он и вокруг света сколько раз хаживал и в Ледовитом океане за китом плавал. Такого зверя, как Фофан, отродясь на свете не бывало: драл собственноручно, меньше семи зубов с маху не вышибал, да еще райские сады на своем корабле устраивал.
Китаев улыбался своим беззубым ртом. Зубов у него не было: половину в рекрутстве выбили да в драках по разным гаваням, а остатки Фофан доколотил. Однако отсутствие зубов не мешало Китаеву есть не только хлеб и мясо, но и орехи щелкать: челюсти у него давно закостенели и вполне заменяли зубы.
– А райские сады Фофан так устраивал: возьмет да и развесит провинившихся матросов в веревочных мешках по реям… Висим и болтаемся… Это первое наказание у него было. Я болтался-болтался как мышь на нитке… Ну, привык, ничего – заместо качели, только скрюченный сидишь, неудобно малость.
И он, скорчившись, показал ту позу, в какой в мешках сиживал.
– Фофан был рыжий, так, моего роста и такой же широкий, здоровущий и красный из лица, как медная кастрюля, вроде индейца. Пригнали меня к нему как раз накануне отхода из Кронштадта в Камчатку. Судно, как стеклышко, огнем горит – надраили. Привели меня к Фофану, а он уже знает.
– Васька Югов? – спрашивает.
– Есть! – отвечаю.
– Крузенштерн, – а я у Крузенштерна на последнем судне был, – не справился с тобой, так я справлюсь.
И мигнул боцману. Ну, сразу за здраю-желаю полсотни горячих всыпали. Дело привычное, я и глазом не моргнул, отмолчался. Понравилось Фофану. Встаю, обеими руками, согнувшись, подтягиваю штаны, а он мне:
– Молодец, Югов.
Бросил я штаны, вытянулся по швам и отвечаю: есть! А штаны-то и упали. Еще больше это понравилось Фофану, что штаны позабыл для-ради дисциплины.
– На сальник! – командует мне Фофан.
А потом и давай меня по вантам, как кошку, гонять. Ну, дело знакомое, везде первым марсовым был, понравился… С час гонял – а мне что! Похвалил меня Фофан и гаркнул:
– Будешь безобразничать – до кости шкуру спущу!
И спускал. Вот, то есть как, за всякие пустяки дерма драл да в мешках на реи подвешивал. Прямо зверь был. Убить его не раз матросы собирались, да боялись подступиться.
Фофан меня лупил за всякую малость. Уже просто человек такой был, что не мог не зверствовать. И вышло от этого его характера вот какое дело. У берегов Японии, у островов каких-то, Фофан приказал выпороть за что-то молодого матроса, а он болен был, с мачты упал и кровью харкал. Я и вступись за него, говорю, стало быть, Фофану, что лучше меня, мол, порите, а не его, он не вынесет… И взбеленился зверяга…
– Бунт? Под арест его. К расстрелу! – орет, и пена от злобы у рта.
Бросили меня в люк, а я и уснул. Расстреляют-то завтра, а я пока высплюсь. Вдруг меня кто-то будит:
– Дядя Василий, тебя завтра расстреляют, беги, – земля видна, доплывешь.
Гляжу, а это тот самый матрос, которого наказать хотели… Оказывается, все-таки Фофан простил его по болезни… Поцеловал я его, вышел на палубу; ночь темная, волны гудят, свищут, море злое, да все-таки лучше расстрела… Нырнул на счастье, да и очутился на необитаемом острове… Потом ушел в Японию с ихними рыбаками, а через два года на «Палладу» попал, потом в Китай и в Россию вернулся.
* * *
Директором гимназии был И. И. Красов. В первый раз я его увидел в классе так:
– Иван Иванович… Иван Иванович… – зашептал класс и смолк.
Я еще не знал, кто такой Иван Иванович, но слышал тяжелые, слоновьи шаги по коридору, и при каждом шаге вздрагивала стеклянная дверь нашего класса. Шаги смолкли, и в открытой двери появился сначала синий громадный шар с блестящими пуговицами, затем белая-белая коротенькая ручка и, наконец, синий шар сделал какое-то смешное движение, пролез в дверь, и вместе с ним появилась добродушная физиономия с длинным утиным носом и едва заметными сонными глазками. Из-под шара и руки, опершейся на косяк, показалась не то тарелка киселя, не то громадное голое колено и выскочила маленькая старческая бритая фигура инспектора Игнатьева с седой бахромой под большими ушами. И ринулся маленький, семеня ножками, к доске, и вытащил из-за нее спрятавшегося Клишина.
– Уж тут себе… Уж тут себе… На колени, мерзавец!..
– Иван Иванович, простите… Иван Львович… – то в одну, то в другую сторону оборачивался с колен лунообразный купеческий сынок Клишин.
– Иван Иванович… У меня штаны новые – отец драться будет.
– Потому что… да, да, да… – тоненьким тенорком раскатился Иван Иванович и, повернувшись, стал вправлять свой живот в дверь, избоченился и скрылся.
– Уж тут себе… Уж тут себе… Вставай, скотина… Не тебя жалею, лупетка толстая, штанов твоих родительских… – И засеменил за директором.
– Го-го-го… го-го-го… – раскатился басом зырянин Забоев. Четырехугольная фигура, четырехугольное лицо, четырехугольные лоб и нос. В первом классе он сидел 6 лет. Приезжал из Сольвычегодского уезда по зимам, за тысячу верст, на оленях, его отец-зырянин, совершенный дикарь, останавливался за заставой на всполье, в сорокаградусные морозы, и сын ходил к нему ночевать и есть сырое мороженое оленье мясо. В этом же году его выгнали за скандал: он, пьяный, ночью побросал с соборного моста в реку патруль из четырех солдат, вместе с ружьями. А Клишин вышел из гимназии перед Рождеством и той же зимой женился. Таких великовозрастных было много в первом классе. Конечно, все они были поротые. Хотя телесное наказание было уже запрещено в гимназиях, но у нас сторожа Онисим и Андрей каждое воскресенье устраивали «парти плезиры» на всполье, в тундру, специально для заготовления розог, которые и хранили в погребе.
– Чтобы свежие были!
Употреблять их приходилось все-таки редко, но традиции велись. Оба сторожа, николаевские солдаты, никогда не могли себе представить, что можно ребят не пороть.
– Ум выгонять надо оттуда, чтобы он в голову шел, – совершенно безапелляционно заявлял Онисим и сокрушался, что «мало порют ныне».
Мой отец тоже признавал этот способ воспитания, хотя мы с ним были вместе с тем большими друзьями, ходили на охоту и по нескольку дней, товарищами, проводили в лесах и болотах. В 12 лет я отлично стрелял и дробью и пулей, ездил верхом и был неутомим на лыжах. Но все-таки я был безобразник, и будь у меня такой сын теперь, в XX веке, я, несмотря ни на что, обязательно порол бы его.
Когда отец женился во второй раз, муштровала меня аристократическая родня мачехи, ее сестры, да какая-то баронесса Матильда Ивановна, с коричневым старым псом Жужу!.. В первый раз меня выпороли за то, что я, купив сусального золота, вызолотил и высеребрил Жужу такие места, которые у собак совершенно не принято золотить и серебрить.
* * *
Сидели все на балконе и пили кофе. Были гости. Матильда Ивановна, сухая, чопорная, в шелковой косынке, что-то вязала. Вдруг вбегает Жужу, на минутку садится, взвизгивает, вертится, поднимает ногу и тщетно старается слизнуть золото, а оно так и горит. Что тут было! Меня тетеньки поймали в саду, привели дворню и выпороли в беседке. Одна из тетенек, дева не первой свежести, собственноручно нарвала крапивы и велела ввязать ее в розги. Потом я ей за это жестоко отомстил. Стал к нам ездить офицер, за которого она вышла потом замуж. По вечерам они уходили в старую беседку, в ту самую, где меня пороли, и мирно беседовали вдвоем. Я проломал гнилую крышу у беседки утром, а вечером, когда они сидели на диване и объяснялись в любви, я влез на соседний высокий забор и в эту дыру на крыше, прямо на голову влюбленных, высыпал целую корзину наловленных в пруде крупных жирных лягушек, штук сто! Визг тети и оранье испуганного храброго вояки-жениха, гордившегося медалью за усмирение Польши, я услышал уже из конца чужого сада. Мне за это ничего не было. Жених и невеста молчали об этом факте, и много лет спустя я, будучи уже самостоятельным, сознался тете, с которой подружился. Оказывается, что лягушки-то и устроили ее будущую счастливую семейную жизнь. Это был лягушечий период. Справа от нашего дома жил мальчик Костя. За то, что он фискалил и жаловался на меня, я посадил его в чан, где на дне была вода и куда я накидал полсотни лягушек. Конечно, Костя пожаловался, и я был сечен долго и больно. Это было требование отца Кости, старого бритого чиновника, ходившего в фризовой шинели и засаленном форменном картузе. Эту шинель потом я, в отместку за порку, всю разрисовал масляной охрой, все кругами, кругами. Догадывались, но уличить меня не смели. Для исполнения цели надо было рано утром влезть из сада в окно и в сенцах, где висела шинель, поработать над ней. Через неделю шинель поотчистили, но желтые круги все-таки были видны даже через улицу.
– Хорошенькие воспоминания детства: только одни шалости, а где же ученье?
– Извольте. Ученье? Да, собственно говоря, – ученья-то у меня было мало.
Молодой ум вечно кипел сомнениями. Учишь в Законе Божием, что кит проглотил пророка Иону, а в то же время учитель естественной истории Камбала рассказывает, что у кита такое маленькое горло, что он может глотать только мелкую рыбешку. Я к отцу Николаю. Рассказываю.
– И выходишь ты дурак! И кто тебя учит этой ереси – тоже дурак выходит. Сказано: во чреве китове три дня и три нощи. А если еще будешь спрашивать глупости – в карцер. Написано в книге, и учи. Что, глупее тебя, что ли, святые-то отцы, оболтус ты эдакий?
– А Камбала – тот свое.
– И сравнению не подлежит! Это обыкновенный кит, и он может только глотать малую рыбешку, а тот был кит другой, кит библейский – тот и пророка может. А ты, дурак, за неподобающие вопросы выйди из класса!
И в конце концов, иногда при круглых пятерках по предметам, стояло три с минусом за поведение. Да еще, на грех, стал я стихи писать. И немало пострадал за это…
* * *
В театр впервые я попал зимой 1865 года, и о театре до того времени не имел никакого понятия, разве кроме того, что читал афиши на стенах и заборах. Дома у нас никогда не говорили о театре и не посещали его, а мы, гимназисты первого класса, только дрались на кулачки и делали каверзы учителям и сторожу Онисиму.
В один прекрасный день я вернулся из гимназии, и тетя сказала мне:
– Сегодня я беру тебя в театр, у нас ложа, – и указала на огромный зеленый лист мягкой бумаги, висевший на стене, где я издали прочел:
– «Идиот».
А потом подошел и прочел всю афишу, буквы которой до сих пор горят у меня в памяти, как начертанные огненные слова на стене дворца Валтасара.
«Вологда. С дозволения начальства. Труппой известных артистов в бенефис Мельникова представлена будет трагедия в 5-ти действиях „Идиот, или Тайна Гейдельбергского замка“. Далее действующие лица, а затем и „Дон Ранудо де Калибрадос, или Что за честь, коли нечего есть“, при участии известного артиста Докучаева».
Вот только эти два лица и остались тогда в моей памяти, и с обоими из них я впоследствии не раз встречался и вспоминал то огромное впечатление, которое они на меня тогда произвели. И говорил мне тогда Мельников:
– Неудивительно, батенька! Такого Идиота, как я, вы не увидите. Нас только на всю Россию и есть два Идиота – я да Погонин.
Действительно, Идиот был коронной ролью того и другого. Мельников был знаменитость и Докучаев тоже.
* * *
Так вот какие две знаменитости того времени произвели на меня впечатление и заставили полюбить театр.
Когда мы пришли в зрительный зал, зажигали только еще свечи и лампы. Мы сидели в литерной бельэтажа, сбоку. Входила публика. В первый ряд прошел толстенный директор нашей гимназии И. И. Красов в форменном сюртуке, за ним петушком пробежал курчавый, как пудель, француз Ранси. Полицмейстер с огромными усами, какой-то генерал, похожий на Суворова, и мой отец стояли, прислонясь к загородке оркестра, и важно оглядывали публику, пока играла музыка, и потом все они сели в первом ряду… Вдруг поднялся занавес – и я обомлел. Грозные серые своды огромной тюрьмы, и по ней мечется с визгом и воем, иногда останавливаясь и воздевая руки к решетчатому окну, несчастный бледный юноша с волосами по плечам, с лицом мертвеца. У него ноги голые до колен, на нем грязная длинная женская рубашка с оборванным подолом и лохмотьями вместо коротких рукавов… И вот эта-то самая первая сцена особенно поразила меня, и я во все время учебного года носился во время перемен по классу, воздевая руки кверху, и играл Идиота, повторяя сцены по требованию товарищей. Это так интересовало класс, что многие, никогда не бывавшие в театре, пошли на «Идиота» и давали потом представление в классе. После окончания пьесы Мельникова вызывали без конца, и, когда еще раз вызвали его перед началом водевиля и он вышел в сюртуке, я успокоился, убедившись, что это он «только представлял нарочно». Окончательно же успокоился на водевиле и выучил распевать товарищей некоторые запомнившиеся куплеты:
Нужно поручительство, —
Где порук найти, —
Ваше покровительство
Может нас спасти…
И после «Идиота» в классе копировал Докучаева, передавая важность дон Ранудо… И это увлечение театром продолжалось до следующего учебного года, когда я увлекся цирком и ради сальто-морталей забыл Идиота и важного дон Ранудо.
Представление «Царь Максемьян» солдатами в казармах в 1866 году произвело на наших гимназистов впечатление неотразимое, и много фраз из этого произведения долго были ходячими, а некоторые сцены мы разыгрывали в антрактах. Представление это было всего только один раз, и гимназистов было человек десять, попавших на «Максемьяна» только благодаря тому, что они были или дети, или знакомые гарнизонных офицеров. Зато мы, то есть каждый из этого десятка, были героями дня в классе, и нас заставляли разыгрывать сцены и рассказывать о виденном и слышанном.
– Не подходи ко мне с отвагою, а то проколю тебя сею шпагою, – повторяли мы ежедневно и много лет при всяком удобном случае, причем шпагу изображала ручка или карандаш.
Из учителей останется в памяти у всех моих товарищей, которые еще есть в живых, учитель естественной истории Порфирий Леонидович, прозванный Камбалой.
Это был длинный, худой, косой и лопоухий субъект, при ходьбе качавшийся в обе стороны. Удивительный мечтатель. Он вечно витал в эмпиреях, а может быть, вечно был влюблен. Никогда не садился на кафедру. Ему сносили кресло к первой парте, где он и располагался. Сядет, обоймет журнал, закатит косые глаза в потолок и переносится в другой мир, как только ученик начнет отвечать. В мечтательном состоянии так и летели четверки и пятерки. Только надо было знать первые строки спрашиваемого урока, а там – барабань что хочешь: он, уловив первые слова, уже ничего не слышит.
– Гиляровский. Выхожу.
– Собака!
– Собака, Порфирий Леонидович.
– Собака!
– Собака – Canis familiaris.
– Вер-рно!..
И закатит глаза.
– Собака – Canis familiaris. Достигает величины семи футов, покровы тела мохнатые, иногда может летать по воздуху, потому что окунь водится в речных болотах отдаленной Аравии, где съедает косточки кокосов, питающихся белугами или овчарками, волкодавами, бульдогами, догами, барбосками, моськами и канисами фамилиарисами…
Он прислушивается на момент.
– Собака, Порфирий Леонидович, водится в северных странах, у самоедов, где они поедают друг друга среди долины ровной, на гладкой высоте, причем торопливо не свивают долговечного гнезда… Собака считается лучшим другом человека… Я кончил, Порфирий Леонидович.
– А?.. Что?.. Кончил?
– Собака считается лучшим другом человека…
– Чело-ве-ека… О-ох!..
И закатит глаза.
– Хорошо, садись!
– Засецкий – окунь!
– Окунь, Порфирий Леонидович.
– Окунь!
– Окунь – Perca fluviatilis. Водится в реках и озерах средней России.
Засецкий, первый ученик, отвечает великолепно и получает ту же пятерку, что и я… Класс уже приучен, и что ни ври – смеется тихо, чтобы не помешать товарищу. Так преподавалась естественная история. Изучали мышей и крыс. Мы принесли с десяток мышей и мышат, опустили их в форточку между окнами, и они во мху, уложенном вместо ваты, жили прекрасно. На веревочке спускали им баночки с водой, молоко и бросали всякую снедь. И когда раз Камбала, поймав в незнании урока случайно остановившегося посреди ответа ученика, на него раскричался и грозил единицей, – мы отвлекли его гнев указанием на мышей. Камбала расчувствовался и долго рассказывал, стоя у окна, о мышах, потом перешел на муравьев, на слонов и, наконец, когда уже раздался звонок к перемене, сказал:
– Милые зверьки… Только я думаю, что их сторожа разгонят…
– Да мы, Порфирий Леонидович, не покажем их…
Но как раз в эту минуту влетел инспектор, удивившийся, что после звонка перемены класс не выходит, – и пошла катавасия! К утру мышей не было.
– Гадов развели, озорники беспутые, – ругал нас сторож Онисим.
Но на класс кары не последовало. А сидели раз два часа без обеда всем классом за другое; тогда я был еще в первом классе. Зима была холодная. Нежностей, вроде нехождения в класс, не полагалось. В 40 градусов с лишком мы также бегали в гимназию, раза два по дороге оттирая снегом отмороженные носы и щеки, в чем также нередко помогали нам те же сторожа, Онисим и Андрей, относясь к помороженным с отеческой нежностью. Бывали морозы и такие, что падали на землю замерзшие вороны и галки. И вот кто-то из наших второклассников принес в сумке пару замерзших ворон и, конечно, в класс, в парту. Птицы отогрелись, рванулись – и прямо в окно. Загремели стекла двойных рам, класс наполнился холодом, а птицы улетели. Тогда отпустили всех по домам, а на другой день второй класс и нас почему-то продержали два часа после занятий. За что наш класс – так и не знаю. Но с тех пор в морозы больше 40 градусов нас отпускали обратно. Распорядиться же не приходить в 40 градусов совершенно в гимназию было нельзя, потому что на весь наш губернский город едва ли был десяток градусников у самых важных лиц. Обыкновенные обыватели о градусниках и понятия не имели. Вешать же на каланчах морозные флаги никто и не додумался тогда.
Кроме Камбалы, человека безусловно доброго и любимого нами, нельзя не вспомнить двух учителей, которых мы все не любили. Это были чопорные и важные иностранцы, совершенно непохожие на всех остальных наших милых чиновников, в засаленных синих сюртуках и фраках, редко бритых, говоривших на «о». Влетали нам от них иногда и легкие подзатыльники, и наказания в виде стояния на коленях. Но все это делалось просто, мило, по-отечески, без злобы и холодности. Учитель французского языка м-р Ранси, всегда в чистой манишке и новом синем фраке, курчавый, как пудель, говорят, был на родине парикмахером. Его терпеть не могли. Немец Робст ни слова не знал по-русски, кроме: «По-шель, на уколь, свинь рюски», и производил впечатление самого тупоголового колбасника. Первые его уроки были утром, три раза во втором классе и три раза в третьем. Для первого начала, когда он появился в нашей гимназии, ему в третьем классе прочли вместо молитвы: «Чижик, чижик, где ты был» и т. д.
Это было в понедельник. Второй класс узнал – и тоже «чижика» закатил. Так продолжалось с месяц. Вдруг на наш первый урок вместе с немцем ввалился директор.
– Читай молитву, – приказал он первому ученику.
И тот начал читать молитву перед учением. Немец изумленно вытаращил белые глаза и спросил:
– Пашиму не тшиджик-тшиджик?
Дело разъяснилось, и вышел скандал. Конечно, я сидел в карцере, хотя ни разу не читал ни молитвы, ни «чижика». В том же году, весной, во второй половине, к экзаменам приехал попечитель округа князь Ливен. Железной дороги не было, и по телеграфу заблаговременно, то есть накануне приезда, узнало начальство о его прибытии. Пошли мытье и чистка. Нас выстраивали в классе и осматривали пуговицы. Мундиры с красными воротниками с шитьем за год перед этим отменили, и мы ходили в черных сюртуках с синими петлицами. Выстроили нас всех в актовом зале. Осмотрели маленьких. Подошли к шестому и седьмому классам, директор с инспектором и заволновались, зажестикулировали. И смешно на них, маленьких да пузатеньких, было смотреть перед строем рослых бородатых юношей. Бородатые были и в младших классах. Так, во втором классе был старожил Гудвил, более похожий по длинным локонам и бородище на соборного дьякона.
– Потому что… Потому что… Я… да… да… Остричься!.. – визжал директор.
– Уж тут себе… Уж тут себе… Обриться!.. – вторил Тыква.
Инспектора звали Тыквой за его лысую голову. И посыпались угрозы выгнать, истолочь в порошок, выпороть и обрить на барабане всякого, кто завтра на попечительский смотр не обреется и не острижется. Приехал попечитель, длинный и бритый. И предстали перед ним старшие классы, высокие и бритые – в полумасках. Загорелые лица и белые подбородки и верхние губы свежеобритые… смешные физиономии были.
* * *
Из того, что я учил и кто учил, осталось в памяти мало хорошего. Только историк и географ Николай Яковлевич Соболев был яркой звездочкой в мертвом пространстве. Он учил шутя и требовал, чтобы ученики не покупали пособий и учебников, а слушали его. И все великолепно знали историю и географию.
– Ну, так какое же, Ордин, озеро в Индии и какие и сколько рек впадают в него?
– Там… мо… мо… Индийский океан…
– Не океан, а только озеро… Так забыл, Ордин?
– Забыл, Николай Яковлевич. У меня книжки нет.
– На что книжка? Все равно забудешь… Да и нетрудно забыть – слова мудреные, дикие… Озеро называется Манасаровар, а реки – Пенджаб, что значит пятиречье… Слова тебе эти трудны, а вот ты припомни: пиджак и мы на самоваре. Ну, не забудешь?
– Галахов! Какую ты Новую Гвинею начертил на доске? Это, братец, окорок, а не Новая Гвинея… Помни, Новая Гвинея похожа на скверного, одноногого гуся… А ты окорок.
В третьем классе явился Соболев на первый урок русской истории и спросил:
– Книжки еще не покупали?
– Не покупали.
– И не покупайте, это не история, в ней только и говорится, что такой-то царь побил такого-то, такой-то князь такого-то и больше ничего… Истории развития народа и страны там и нет.
И Соболев нам рассказывает русскую историю, давая записывать имена и хронологические данные, очень ловко играя на цифрах, что весьма легко запоминалось.
– Что было в 1380 году?
Ответишь.
– А ровно через сто лет?
Все хорошо запоминалось. И самое светлое воспоминание осталось о Соболеве. Учитель русского языка, франтик Билевич, завитой и раздушенный, в полную противоположность всем другим учителям, был предметом насмешек за его щегольство.
– Они все женятся! – охарактеризовал его Онисим.
Действительно, это был «жених из ножевой линии» и плохо преподавал русский язык. Мне от него доставалось за стихотворения-шутки, которыми занимались в гимназии двое: я и мой одноклассник и неразлучный друг Андреев Дмитрий. Первые силачи в классе и первые драчуны, мы вечно ходили в разорванных мундирах, дрались всюду и писали злые шутки на учителей. Все преступления нам прощались, но за эпиграммы нам тайно мстили, придираясь к рваным мундирам.
* * *
Вдруг совершенно неожиданно, в два-три дня по осени выросло на городской площади круглое деревянное здание необъятной высоты.
ЦИРК АРАБА-КАБИЛА ГУССЕЙН БЕН-ГАМО
Я в дикий восторг пришел. Настоящего араба увижу, да еще араба-кабила, да еще – Гуссейн Бен-Гамо!..
И все, что училось и читалось о бедуинах и об арабах и о верблюдах, которые питаются после глотающих финики арабов косточками, и самум, и Сахара – все при этой вывеске мелькнуло в памяти, и одна картина ярче другой засверкали в воображении. И вдруг узнаю, что сам араб-кабил с женой и сыном живут рядом с нами. Какой-то черномазый мальчишка ударил палкой нашу черную Жучку. Та завизжала. Я догнал мальчишку, свалил его и побил. Оказалось, что это Оська, сын араба-кабила. Мы подружились. Он родился в России и не имел понятия ни об арабах, ни об Аравии. Отец был обруселый араб, а мать совсем русская. Оська учился раньше в школе и только что его отец стал обучать цирковому искусству. Два раза в неделю, по средам и пятницам, с 9 часов утра до 2 часов дня, а по понедельникам и четвергам с 4 часов вечера до 6 часов отец Оську обучал. Араб-кабил был польщен, что я подружился с его сыном, и начал нас вместе «выламывать». Я был ловчее и сильнее Оськи, и через два месяца мы оба отлично работали на трапеции, делали сальто-мортале и прыгали без ошибки на скаку на лошадь и с лошади. В то доброе старое время не было разных предательских кондуитов и никто не интересовался – пропускают уроки или нет. Сказал: голова болела или отец не пустил – и конец, проверок никаких. И вот в два года я постиг, не теряя гимназических успехов, тайны циркового искусства, но таил это про себя. Оська уже работал в спектаклях («Малолетний Осман»), а я только смотрел, гордо сознавая, что я лучше Оськи все сделаю. Впоследствии не раз в жизни мне пригодилось цирковое воспитание, не меньше гимназии. О своих успехах я молчал и знания берег про себя. Впрочем, раз вышел курьез. Это было на страстной неделе, перед причастием. Один, в передней гимназии, я делал сальто-мортале. Только что, перевернувшись, встал на ноги, – передо мной законоучитель, стоит и крестит меня.







