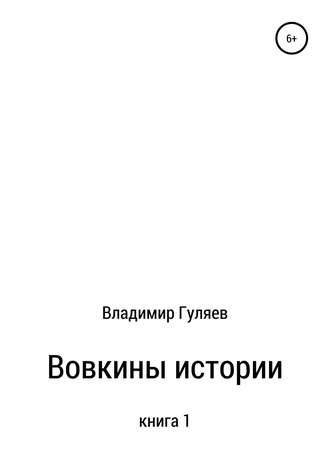
Владимир Георгиевич Гуляев
Вовкины истории. Книга 1
Отзывы на «Вовкины истории», полученные от читателей
из переписки и Интернета
«Это как же нужно любить свою землю, людей, семью, чтобы мобилизовать себя на сей благородный труд, воплотить это чувство любви в художественно-поэтическое, прозаическое слово.
Очень важна конкретика изложения исторических событий, описание судеб людей родных, близко знакомых. Важен патриотизм через любовь к ближнему кругу – семйному клану.
Работа очень кропотливая, но важная для сохранения исторической правды жизни. На такой труд способны истинные патриоты своей земли и семьи. Если бы каждый семейный клан имел такого летописца, были бы невозможны искажения и домыслы, а дети и внуки достойно и с гордостью несли далее любовь к земле и родным людям».
Галина Горн (во девичестве Брюшкова) – жена (вдова) Виктора Горна*.
14.08.2017г.
*
–
Горн Виктор Фридрихович (Фёдорович)
(11.04.1949 – 31.03.2012) – литературовед, критик и шукшиновед, доктор филологических наук, профессор. В конце 80-х возглавлял местное отделение Союза писателей СССР, был главным редактором журнала "Алтай", член совета по критике и литературоведению Cоюза писателей СССР и РСФСР
.
================================================================
Вовкины истории
Книга 1. «Вовка»
Вступление
Любой театр, как известно, начинается с вешалки.
А наша жизнь – театр, сказал В.Шекспир монологом Жака:
«Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины – все актеры. У них свои есть выходы, уходы, И каждый не одну играет роль. Семь действий в пьесе той. Сперва младенец, ревущий горько на руках у мамки… Потом плаксивый школьник с книжной сумкой, с лицом румяным, нехотя, улиткой ползущий в школу…»
И мы, каждый, как актёр по жизни имеем свои «вешалки и гардеробные», которые заполняются многими «коробками», о содержимом которых до поры до времени забываем. И только с годами у нас появляется время заглянуть в них и извлечь их содержимое пылившееся долгое время.
А там: детство и юность… Они прятались в пирамидах наших впечатлений, насыпаемых временем. Десятки лет память скрывала и прятала от нас самих наши воспоминания о ранних годах жизни и всё то, что происходило в детстве и юности, прятало безжалостно и неумолимо. Прошлое забылось надолго, но не навсегда и вот с годами часть воспоминаний начало проявляться как фотопленка постепенно, кадр за кадром, год за годом, выстраиваясь в сюжет как в кинохронике, прокручивая в памяти те яркие события жизни, которые видимо и стали 'точками отсчета' для последующих событий. Память цепко хранила эти 'точки' до поры до времени и, руководствуясь какими-то своими правилами и законами, в один прекрасный момент стала щедрой и расточительной. И тогда эпизоды детских лет, врываясь в сознание, стали настолько яркими и эмоциональными, что это невольное путешествие в прошлое начало выглядеть реальностью.
Возможно, что это приходит к нам в наших снах.
Глава 1. Детство. Сибирь
1957
До моего рождения один пацан уже был у моих родителей – это мой старший брат. Его звали Славкой. Я, конечно, об этом ещё не знал, так как был только в проекте, поэтому вторая детская ниша в семейном пространстве была ещё пуста, а это не могло продолжаться долго – она должна была быть заполнена. И вот тёплым июньским днём мой первый крик раздался в сельской больнице, оповестив мир о моём появлении.
– Смотри, здоровяк какой! – Сказала медсестра. – И в шапочке родился! Счастливый будет. Ишь, уже улыбается, жизни радуется!
– Да ты от окошка-то отверни его, видишь, сощурился от солнечного света.
– Пусть привыкает, солнце оно силу придаёт. В хороший день родился, солнечный и тёплый! Зина, как именовать-то решили?
– Не знаю пока, Славка сказал, что он назовёт сам, ему уже три с половиной года – большой, я сам, говорит, придумаю как его назвать.
Рождение ребёнка всегда, особенно на селе, было большим и радостным событием, как для родителей и родственников, так и для односельчан, которые не были безразличны к такому событию. Видимо уклад жизни того времени был немного другим, более добрым и дружелюбным.
Перед больницей лихо развернувшись, и подняв пыль столбом, остановился мотоцикл.
– Что там? Как? Кто родился? Сын! Молодчина, супруга! Второй сын! Как они? Нормально! Посмотреть можно? Потом! Ну ладно, потом значит потом. За мной, девчонки, халва и конфеты, – крикнул отец медсёстрам, помахал жене рукой и уехал…
Он дня два угощал за рождение сына-богатыря родственников и мужиков-механизаторов, своих коллег, с двух деревень: родной Новообинцево и Шелаболихи.
На третий или четвёртый день к роддому подъехала сверкающая хромированными бамперами «Победа».
– Глянь, начальство какое-то подкатило? – Молвила медсестра, помогающая Зинаиде пеленать мальца.
– Это Фёдор, брат Геннадия. За нами приехали.
– Смотри-ка, как за прынцем прям! На эдакой шикарной машине!
Вовка мирно и важно посапывал, как будто зная, что «прынцем» называли его.
Из машины вышли отец и его брат Фёдор. Фёдор работал в соседнем районе председателем колхоза и обещался стать крёстным новорождённому – вот и приехал за «крестником»:
– Ну-ка, ну-ка! Где тут мой «крестник»? Ух-ты, какой востроглазый! Ха-ха! Смотри-ка, глядит как прямо! Ну, что крестник – добро пожаловать! Сейчас мы тебя как начальника домой домчим!
Отец гордо и осторожно нёс меня к машине. Так и прошёл мой выезд из роддома в жизнь в «шикарной машине» под ярким названием «Победа».
Когда меня сонного привезли домой брат Слава, говорят, долго присматривался ко мне и изрёк:
– А чё это он слеплый какой-то!
А когда я чуть приоткрыл глаза, не полностью, а так – маленькие щелки, он закричал:
– Глядите, глядите, Вовка прослепился!
Так у меня появилось имя – Вовка. В нашей родне уже было трое Вовок Гуляевых, одному – 10 лет, второму – два, третьему – год. И вот появился я – четвёртый. Позже родятся ещё трое и их назовут таким же именем, но это будет позже и я об этом ещё ничего не знал и знать не мог.
Сам ребёнок в первый год жизни знает много и совсем не то, что знают его родители и другие взрослые, а иначе почему бы он с таким любопытством смотрел на мир, в который он пришёл неожиданно для себя. Но в течение первого года он практически всё забывает, переучиваясь с их помощью. А частичка его прошлых дородовых воспоминаний не исчезает полностью, а остаётся где-то в глубинах памяти, но выйти из заточения этой частичке сложно – практически не возможно. Он бы многое им рассказал в свои первые дни и месяцы, но мог издавать только: «гу-гу-угу-угу!..»
Когда мне исполнился месяц, мать пошла на работу, а я остался под присмотром бабушки и старшего брата. А что было за мной присматривать: я мирно полёживал в зыбке – спал и посасывал тряпочный узелок с перетёртой кукурузой и хлебом, а когда не спал – рассматривал белый потолок, по которому ползала вниз головой большая фиолетовая муха и «раздумывал» о своём бытие, а брат носился по двору или огороду; бабушка хлопотала по хозяйству: то полола грядки, периодически проверяя наличие моего питания, то судачила с зашедшими в гости соседками, одновременно следя за Славкиными передвижениями.
В тот год осенью Славка, выскользнув из бабушкиного поля зрения пока она вела задушевные разговоры с двумя сударками на крыльце, совершил небольшой поджог кучи прелой соломы с обратной стороны дома и, испугавшись, убежал, спрятавшись в зарослях черёмухи обильно растущей в нашем огороде. Возможно, огня было и не много, но густой дым зашёл в комнату, поднялся над улицей. Я был успешно спасён бабушкой, а через минут десять приехал отец с мужиками из МТС и загасили огонь. Дом не пострадал, я какое-то время кашлял, а Славка получил по первое число.
Шли годы…
Когда родится ребёнок то, вначале, кажется, что как-то он долго не ползает, потом, вроде, долго ползает, а должен бы уже ходить. А вот когда он начинает бегать… То про всё предыдущее сразу забывается.
Коротка память человеческая.
1961
Вовка рос.
Рос и старший брат. Вовке, конечно, думалось, что старший брат растёт быстрее, гораздо быстрее: вот он уже в школу пошёл и ему купили большой велосипед. Взрослый велосипед купили – на вырост! Славка на нем быстро научился кататься «под рамой» и уже через неделю рассекал по переулку с пацанами попеременно. Вовка вначале бегал за ними, но потом ему это надоело: чего зря бегать, если они всё равно не научат его ездить на велике, а прокатить его у них желания особого и не было. И тогда он уходил в огород в прохладу черёмуховых зарослей, усаживался на траву и прижимался спиной к стволу «главной черёмухи» – так определил он её для себя, потому что она была самая высокая и стройная, ветвистая и толстая у земли, а для Вовки она ещё была самой главной и самой доброй. Это было его любимое место и ему нравилось вот так сидеть молча и слушать шелест листьев и веток, слушать… и придумывать разные истории.
Одногодков у него в переулке не было, на год-полтора старше и младше были, а ровни – нет, а старшие не всегда брали «мелких» играть в свои игры. «Вот, если бы мне научиться на велосипеде ездить!» Но тот, Славкин, был ещё тяжелым для него – четырехлетнего… «Вот подрасту на будущий год и буду кататься!»
Но, ни на будущий год, ни в последующие три-четыре, научиться «ездить» на велосипеде Вовке не пришлось.
Прошло чуть больше недели после Вовкиных «думок» как Славка, катаясь по улицам в очередной раз, вдруг выехал из переулка на главную дорогу и врезался в милицейский «бобик». «Бобик» не пострадал, да и Славка к счастью получил лишь несколько незначительных ссадин и ушибов. И на этом «бобике» он был доставлен домой в объятия родителей.
Велосипед приказал долго жить, и был поставлен на долгую стоянку в сарай…
По осени, когда шла уборка урожая, одной из забав у деревенской ребятни было добывание зерна. В принципе голодными они не были, но интерес к зерновым культурам у них был, всё-таки крестьянские дети в корнях.
Вечерами, когда темнело, деревенская ребятня выдвигалась на исходные позиции к узкой улице, по которой с утра до ночи проезжали к элеватору грузовики, груженые зерном. Славка с друзьями тоже принимали участие в добыче зерновых, но без Вовки.
Ему в ту пору уже исполнилось четыре года, и он был вполне самостоятельный человек, правда, его старший брат с друзьями не брали этого «самостоятельного» с собой, поэтому утверждаться в своём статусе Вовке пришлось самостоятельно: на отдаленном расстоянии он, прячась за выступами палисадников и прижимаясь к заборам, тихо и уверенно следовал за ними, а когда они дошли до места и стали что-то делать, передвигаясь с одной стороны улицы на другую, он присел за кучу бревен у одного из домов и начал наблюдать, что будет дальше.
Пацаны перебегали через улочку и что-то быстро прикручивали, в темноте было трудно определить, что они там делали. Позже Вовка узнал, что они натягивали через улицу обыкновенную швейную нитку, а когда подъезжающая машина освещала эту нитку фарами, то в их свете она казалась толстой как веревка. Водитель останавливался, ругался и шёл убирать это непонятно откуда взявшееся препятствие, а ребятня в это время через задний борт горстями набирали пшеницу, ссыпали в карманы и быстро ретировались в кусты. Водитель поняв, что это детские шалости, матерясь и чертыхаясь, возвращался в машину и ехал дальше.
Пацанам было очень весело, и потом они шумной толпой отправлялись домой, жуя на ходу теплые зерна, и взахлёб рассказывали друг другу, как это было здорово и смешно.
Подобные «забавы» проделывались не более двух раз, вернее не более двух вечеров. Может они и позже потом кем-то исполнялись, но явно не Славкиными друзьями. Ибо уже к вечеру второго дня, или утром третьего шутники были разоблачены и карающая рука отцов опускала на их оголенные места, ниже поясницы, солдатский кожаный ремень, а некоторым доставалось бичом или вожжами. После таких воспитательных мер пожевать зерна больше не хотелось.
Так что главной забавой, безобидной и более полезной оставалась рыбалка, выливание хомяков и сусликов и лазанье по ярам для добычи яиц из гнезд птиц… Более выгодной, в двойне, была добыча сусликов: во-первых, за каждую шкурку платили по пять копеек, что равнялось одному походу в кино, а во-вторых, поджаренное мясо сусликов было очень вкусным.
Славка со своими друзьями-ровесниками изредка брали своих младших братьев и сестер на эти мероприятия, всё-таки лишний бидон с водой не будет мешать, а если не брали, то Вовка и подобная «мелюзга» с их переулка собиралась в свою «стайку» и находила себе игры по своему статусу. В основном это был сбор цветных стекляшек и «уничтожение» урожая в огороде: огурцов, морковки и, конечно же, поедание черемухи, благо черемухи в огороде было полно.
Однажды Славка с друзьями притащили кучу свинцовых решеток из старых аккумуляторов и решили стать «металлургами». Разведя в огороде костер и наделав в земле несколько небольших углублений разной формы, наломав свинца и уложив его в консервные банки, ребята приступили к первой плавке. Вовка с любопытством наблюдал за этим процессом. Металл оседал и превращался в блестящие капли, капли катались по дну банки, то соединялись в одну большую массу, то разбегались на несколько. Потом пацаны выливали эту жидкость в лунки-формы и ждали, когда она остынет. Процесс остывания был не таким быстрым: свинец, принимая форму, какое-то время пузырился, сверкая серебром, медленно остывал, становясь тёмно-серым. После первой партии отливки они долго и внимательно рассматривали свои «шедевры металлургии» и приступали ко второй плавке.
Вовкина природная любознательность, помноженная на желание поучаствовать и помочь, родила у него идею о необходимости ускорить процесс остывания отлитого металла, и пока Славка с друзьями расплавляли свинец, он сбегал в дом, набрал кружку холодной воды и поспешил к месту дружно идущей плавки.
«Металлурги» уже заканчивали заливать формы, Вовка подоспел во время и с разгону выплеснул воду в одну из форм. Вода злобно зашипела и расплавленный свинец начал брызгаться, разлетаясь в разные стороны со скоростью пуль. Ребята бросились наутек, но горячие капли свинца догоняли их, впиваясь в спины.
Слава «почетного сталевара» Вовке не досталась, зато потом досталось пару пинков и несколько оплеух от старшего брата, а также около десятка волдырей от ожогов на спине и голове.
«Металлургический завод» прекратил свое существование…
Потом, когда Славка с друзьями отправлялись на поля выливать сусликов или собирались на рыбалку на Обь, Вовка долго канючил:
– Меня-то возьмите, я тоже хочу!..
– Хватит пищать, сиди дома и играй вон со своими, а то жди от тебя опять чего-нибудь эдакого! – Говорил Славка и с друзьями удалялся на промысел.
От таких слов Вовке становилось грустно и обидно. Правда, ненадолго, потому что, благодаря его «пытливому уму и фантазёрству» эта обида быстро проходила и на смену ей приходила какая-нибудь новая идея.
После одной из таких идей бабушка чуть ли не бегом вела его в больницу для промывания уха.
Дело было так.
Получив в очередной раз отказ от старшего брата в участии в рыбалке, Вовка, побродив по переулку, зашел в свой огород. В гуще черемухи он увидел, что на ветках появилась какая-то большая и широкая серо-белая полоса – это были мотыльки, сидевшие на ветках плотно друг к дружке.
Решение было принято быстро: «Это – тля! Они едят нашу черёмуху, нужно их немедленно разогнать!» – Подумал Вовка. Отойдя на некоторое расстояние, он стал кидать в их сторону земляные камни. Недолет, недолет. Эффект слабый. Тогда он взял длинную палку как саблю и, подойдя ближе к полчищу мотыльков, начал махать и бить ей в эту серую глазастую массу. Мотыльки с громким шорохом поднялись и стали беспорядочно летать, ударяясь то об ветки, то об Вовку и в какой-то момент ему показалось, что они на него начали нападать, стукаясь о его лицо, плечи. Он отступил и тут кто-то влетел ему в ухо. И там застрял, шевелясь в его голове. Вовка заорал и рванул в дом. В ухе противно шевелилось насекомое. Было ощущение, что оно там летает!
Бабушка быстро перевязала Вовке голову платком, и они бегом побежали в больницу. Родственница, работавшая медсестрой, всплеснула руками и спросила:
– Чего опять стряслось-то?
– Да, вот мотылек ему в ухо влетел!– ответила бабушка.
– Вовка, ты Вовка, всё у тебя что-то приключается, чудо ты наше! Как он туда к тебе попал-то?
– Я, знаю? Взял и влетел!
– Ясно, что влетел. Ну, давай будем вымывать его! Твоего мотылька.
После промывки уха, тетка на всякий случай прошприцевала ему и второе. Вовке сразу полегчало и показалось, что солнце светит ярче и слышит он еще лучше, чем раньше, даже шелест травы за окном!
Домой они шли не торопясь, до тех пор, пока их не догнали Славка с друзьями, возвращавшиеся с рыбалки.
– Баб, он чё сбежал что ли? – Спросил Славка.
– Да нет, он тлю сгонял с черемухи, вот один мотылёк ему в ухо и залетел. Из больницы идем.
– Вечно у тебя чего-нибудь происходит, – буркнул Славка.
– Ну, ты и вояка, – рассмеялись пацаны.
Вовка прибавил шагу, реплики пацанов ему были не интересны. Дорога домой оказалась намного короче…
1962
Поездка в Ленинград
Вовке повезло.
Он ехал в Ленинград – не один, конечно, а с матерью и двоюродными дедом и бабой, которые ехали проведать дочь, ну а Вовка с матерью, вроде, как их сопровождали. Деду было уже 83 года, да и видел он плоховато, а вот память была у него хорошая: он помнил, как ещё при царе начинал служить в армии и отслужил почти 20 лет! Не часто, но рассказывал про ту, царскую службу, интересно рассказывал. А в деревне его звали все «Колчаком», говорят, что он и у белых успел побывать, а потом и у Будённого служил, и усы у него были длинные и толстые, говорили – как у Будённого, и он постоянно подкручивал их и направлял вверх. А ещё говорили, что он со Сталиным был одногодок. Вовка тогда ещё не знал и мало понимал, кто такие были Будённый и Сталин, но слышал, что кто-то из взрослых хвалил их в разговорах, а кто-то ругал. Но Вовке это, ни о чём ещё не говорило, он знал одно, что вот дед Илья уже старенький и поэтому присмотр за дедом был нужен, ну а кто, как не Вовка лучше сможет присмотреть за ним! Ну и мать, конечно тоже.
Вовка много слышал о Ленинграде от взрослых – в деревне многие мужики там фашистов били. И его родной дел Леонтий тоже там воевал, только Вовка его не застал, помер он года за четыре до Вовкиного рождения. Но кое-что про деда он слышал, и медали его геройские держал даже в руках. А ещё он очень любил слушать рассказы о войне, даже сам фантазировал на эту тему и, конечно, мечтал увидеть этот город, а тут такое подфартило!
Поезд двигался очень быстро, монотонно и интересно постукивая колёсами, приятно раскачиваясь из стороны в сторону и, главное, что страшно нисколечко не было. Людей в вагоне было много, но Вовка быстро познакомился почти со всеми и, важно расхаживая, заходил в соседние купе, садился на краешке и начинал спрашивать – кто куда едет и откуда, но в основном он рассказывал о своей деревне, о своём отце, который служил танкистом, а сейчас работает главным по машинам и полям.
В одном купе ему не удалось завести знакомство: там сидела большая тётка сердитого вида, а рядом с ней мужичок небольшого роста и две девчонки, похожие друг на дружку, «как две кружки» – так говорили в деревне про близнецов. Вовка запросто зашёл в открытое купе и только открыл рот, чтобы поздороваться, как тут же был остановлен сердитым взглядом и словами тётки:
– Мальчик, иди к своим родителям! Нечего здесь ошиваться!
Девчонки-близняшки сидели, втянув свои головы в шеи, и молчали, глядя в пол.
Вовка быстренько выскочил из неуютного купе. Но вот в соседнем купе, он познакомился с угрюмым на вид, но, как оказалось – добрым седым военным, у которого было много цветных ленточек на кармане пиджака. Вовка подсел к нему и сразу "в лоб" спросил:
– А что это у Вас за цветные флажки? Награды, да?
– Да, малыш, это мои награды с войны, – ответил военный и погладил Вовку по голове.
Война – это была Вовкина стихия, его конёк. О войне он мог говорить часами без умолка, а тут настоящий седой бывший фронтовик. Вовка как из пулемёта сразу начал задавать кучу вопросов: где воевал? Кто по званию? Был ли ранен? Куда едет? Вопросов было столько много и заданы они были с такой скоростью, что Вовкин военный улыбнулся и, немного помолчав, сказал:
–Ну, ты и шустрый! Строчишь и строчишь вопросами. Обожди так нападать-то…
И, видимо, что-то в нём произошло, что-то вздрогнуло, что даже соседи по купе, говорившие о чём-то своём, замолчали.
– Был у меня сын, понимаешь, такой же белобрысый и шустрый… как ты… ну на вроде тебя, сейчас он был бы уже взрослый, но потерялся в войну, вот я его всё и ищу. – По щеке военного сбежала капелька росы.
– Дядь, вы найдёте его!..
Вовке стало как-то неприятно, что он влез куда-то не туда со своими расспросами.
– Да, сынок, может и найду! Ну, да, ладно. А воевал я много и долго, дай бог тебе прожить жизнь и не узнать войн.
Его рассказ был не очень долог. Один из попутчиков достал бутылку "московской" и, молча, разлил её содержимое в стаканы из-под чая. Вовка прослушал историю своего нового знакомого с разинутым ртом, он как будто сам был там, сам участвовал в этих боях, что-то очень знакомое было для него в этих не многословных, но содержательных воспоминаниях солдата, только что? Может это были его, Вовкины сны?
Слушая, он как-то сразу окунулся в те события и живо представлял всё так давно происходившее, хоть и не с ним…
Когда рассказ был закончен, в купе повисла тишина и Вовка, обняв военного, прошептал ему на ухо:
– Дядь, вы найдёте его, да! Найдёте!
И убежал в своё купе.
Потом он всю ночь глядел в окно на мелькающие огоньки – сумеречные призраки ночи, освещённые луной, и всё им услышанное проносилось в его воображении и мыслях кадр за кадром как в кино.
«Война – это плохо!» – Думал Вовка и с этими думами он заснул.
Утром он первым делом заглянул в купе военного, но его там не оказалось, не сейчас и не позже. Наверное, он сошел на какой-то станции в поисках своей семьи и своего сына…
А поезд продолжал движение – всё ближе и ближе приближаясь к Ленинграду.
Город мечты оглушил его с самого перрона. Столько людей в одном месте и сразу Вовка никогда не видел: в небольшом пространстве между двумя поездами, казалось, людей было больше, чем жило в их деревне. И все куда-то шли, толкаясь, и обгоняя друг друга. Вовка вцепился в материну руку, кто-то больно шоркнул его по уху влажным вещмешком, кто-то толкнул пузатым чемоданом. Они стояли посреди этой движущейся толпы, видимо, определяясь – куда двигаться и к какому людскому потоку примкнуть. Но в выбранном направлении им не удалось слиться с движущимся потоком: дед, всё-таки был стареньким и не успевал попасть в ритм движения, но, тем не менее, при входе в здание поток разделился на несколько более мелких и спокойных и, вскоре, они оказались в большом, высоком помещение вокзала с огромными окнами и многочисленными рядами скамеек, как в кинотеатре в его деревне.
Вовка всё это время, пока они шли по перрону, смотрел себе под ноги и следил за передвижениями людских ног: одни быстро семенили, другие шагали широко, третьи, как его – двигались с прискоком. А теперь, оказавшись внутри вокзала, он вертел головой, разглядывая бесчисленное множество причудливых узоров и скульптурок на стенах и потолке. Расположившись на свободных местах, они стали ожидать встречающих их родственников. Вовкино внимание привлекли большие прозрачные, видимо стеклянные ворота, которые сами открывались перед людьми, а потом закрывались тоже сами. «Как это происходит?» – подумал он и пошёл знакомиться с этим чудом. Постояв, некоторое время, возле этих толстых стеклянных дверей и не увидев «руки», с помощью которой они могли раскрываться то наружу, то вовнутрь, Вовка просунул ладошку между дверью-стеклом и стальным косяком. В это время дверь отворилась, и Вовкина рука оказалась зажатой как в тисках. Его крик заглушил шум вокзала…
Вокруг собралось много людей сочувствующих и желающих освободить «любознательного пленника». Это удалось довольно быстро и Вовка сел рядом с дедом, всхлипывая не от боли, а больше всего от испуга.
Знакомство с Ленинградом состоялось.
Потом была встреча с родственниками, прогулки по городу. Больше всего Вовке запомнился зоопарк, поездка в метро на эскалаторе и каменные статуи львов, которых было много в этом городе. В метро его удивляли движущие ступеньки, которые в конце постепенно уменьшались и исчезали, уходя куда-то вниз под металлические зубы, которые выглядели страшно, и их нужно было успеть перепрыгнуть. У Вовки это получалось довольно просто, а вот деду было трудновато, но он, всё же, тоже успевал их перепрыгнуть, приговаривая каждый раз после прыжка:
– Ох ты, батюшки мои! Святы!
Поэтому по городу он с ними не ходил, а всё время сидел дома и слушал радио.
В гостях было хорошо, но дома, всё же, лучше и обратный путь домой показался гораздо быстрее и короче.
Белый пароход
После поездки в Ленинград Вовка рассказывал деревенской ребятне о том, что он видел в том большом городе:
– Там столько много разных больших домов, некоторые блестят на солнце золотыми крышами, там много проток течет прямо в городе, а через них построены мосты – много мостов; по берегу ездят машины, а по протокам плавают лодки. Только деревьев там мало и все улицы уложены камнями, а ещё под землёй ходят поезда и там светло как на улице, а лестницы сами движутся – одни вверх, другие вниз. А на улицах, на мостах, и у больших домов стоят каменные львы и у некоторых в носу стальные кольца с цепями – это, наверное, чтобы они ночью не смогли ходить по городу.
– Врёшь ты всё, Вовка. Как это каменные львы могут по городу ходить?
– А вот и не вру! Кольца с цепями у них через нос проходят? Проходят. А зачем им цепи? Чтобы на месте их удержать! Не хотите, так и не буду больше ничего вам рассказывать. Сами съездите и поглядите.
– Ну, ладно рассказывай.
– Сказал, не буду, значит, ничего больше и не расскажу. Вон, у деда Ильи спрашивайте, пусть он вам и рассказывает.
Так и не стал он пацанам ничего больше говорить о поездке и Ленинграде, а так хотелось, спасу нет! «Пусть помучаются любопытством, – думал Вовка, – потом, может быть, как-нибудь расскажу». Но со временем это желание отошло на второй, потом на третий план – забот летом было много: купание и игры, обследование яров и кукурузных посевов, да всего сразу и не упомнить.
В один из тёплых июльских дней Вовка, уставший от беготни по улицам деревни, вернулся домой и увидел гостей. Это были его тетя с мужем, которых он любил, впрочем, как и всех других своих родственников. Ну, может, чуточки на три больше, чем других. Немного позже, после нежных обниманий и ласковых "трёпок", Вовка узнал, что тётка с дядькой хотят взять его с собой плыть на пароходе в г. Камень. В Ленинграде ему не удалось прокатиться на теплоходе, хотя в деревне на лодках он уже катался – и это было здорово: ветер лохматил его белесые волосы, рубаха раздувалась как паруса. Но это было на лодке, а здесь – такая интересная поездка предстояла далеко в гости к крёстному – в Камень, да ещё на пароходе! Вовка понял, что его мечта поплавать на пароходе очень даже может сбыться. И, пока взрослые обсуждали эту возможность поездки, он живо представил, как стоит на капитанском мостике и рулит штурвалом, а все пассажиры ходят по палубам и улыбаются ему, такому хорошему капитану. В его мыслях уже появились вполне живые картинки с нападением пиратов на их пароход, но он – ловкий и смелый капитан увёл «свой корабль» от погони, а пираты с позором сели на мель. И все пассажиры были рады этому спасению и, улыбаясь благодарно, махали Вовке руками, кепками и шляпами…
Но его фантазии прервали слова родителей:
– Мы бы, конечно, и не против, чтобы он поехал с вами, но он же, знаете – такая шустрая веретёшка, что за ним глаз, да глаз нужен. Он же на одном месте долго не сидит, всё ему куда-то надо бежать.
– Это мы знаем. Но думаем, что всё будет нормально, на сто процентов.
– Ну не знаем, не знаем! Как-то всё-таки опасно это дело: пароход, река…
… Вовка понял, что его путешествие и все его мечты оказались под угрозой срыва, он влетел в комнату к взрослым с громким криком:
– Пап, мам! Я буду нормально себя вести! Отпустите-е! – Больше слов у него не нашлось, и он заплакал.
На следующее утро Вовка гордо шагал через всю деревню к пристани, крепко держась за руки тети и дяди. Вдалеке у берега стоял Белый пароход, который ждал его, Вовку! В самом начале он и вправду вёл себя нормально, а руки взрослых держали его крепко и надёжно. Имея эти оковы несвободы, Вовка тянул изо всех сил то тётку, то дядьку, смотря, кто с ним прохаживался в это время по палубе, то к одному борту, то к другому – ему хотелось увидеть есть ли разница в том, как волны бьются о борт с той или с другой стороны парохода и как они откатываются от него и какие причудливые формы принимают при этом.
В одной из прогулок по палубе произошло то, что могло произойти или должно было произойти, когда-нибудь обязательно, если не с Вовкой, то с кем-нибудь другим. Дядя, державший Вовкину надёжно, буквально на несколько секунд отвлёкся, закуривая папиросу, и отпустил его руку. Прикурив и сделав всего пару-тройку шагов он, вдруг, обнаружил, что Вовка исчез, просто был вот и нет – палуба была пуста. У дяди волосы на голове начали шевелиться – он не мог понять, что произошло, и как, куда мог исчезнуть Вовка! Ему на миг показалось, что всё вокруг замерло, слышно было только учащённый стук собственного сердца, и мерзкий холодок забрался под рубашку – стало жутко. Он кинулся туда-сюда, Вовки нигде не было…
Вдруг он услышал Вовкин крик, который доносился откуда-то снизу. Тут он увидел небольшой люк в полу палубы. Заглянув в него, он увидел Вовку лежащего внизу на металлической решётке, а под ним с огромной скоростью, пенясь и бурля, неслась вода реки – чёрная с белыми пенными пузырями, коварная, поглотившая много людей за своё существование. На крик подбежали матросы, которые и вытащили Вовку из опасного плена…
А люк был просто случайно не закрыт матросом, моющим палубу.
И всё могло бы обойтись печально, скорее трагически, если бы не было той решётки внизу.
Вовке было пять лет и всё для него ещё в жизни было хорошо и просто. Он быстро «забыл» об этом "приключении" и сам никогда не рассказывал о нём никому, потому что тогда, в тот раз, ему было страшно, а когда ему бывало страшно – он всегда молчал о своих страхах…



