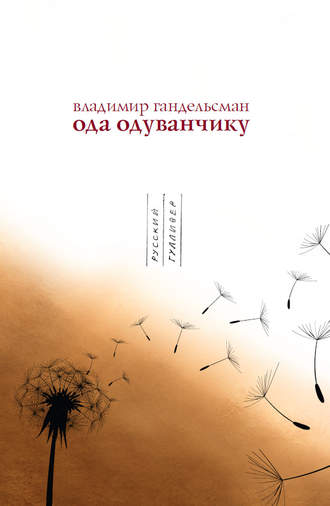
Владимир Гандельсман
Ода одуванчику
Распятие
Что ещё так может длиться,
ни на чём держась, держаться?
Тела кровная теплица,
я хотел тебя дождаться,
чтоб теперь, когда устало
ты и мышцею не двинуть,
мне безмерных сил достало
самого себя покинуть.
Дерево
Как дерево, стоящее поодаль,
как в неподвижном дереве укор
тебе (твоя отвязанность – свобода ль?)
читается (не слишком ли ты скор?),
как почерк, что, летя во весь опор,
встал на дыбы, возницей остановлен,
на вдохе, в закипании кровей,
на поле битвы-графики ветвей,
как сеть, когда, казалось бы, отловлен,
но выпущен на волю ветер (вей!),
как дерево, как будто это снимок
извилин Бога, дерево, во всём
молчащем потрясении своём,
как замысел, который насмерть вымок,
промок, пропах землёй, как птичий дом
со взрывом стаи глаз, как разоренье
простора, с наведённым на него
стволом, как изумительное зренье,
как первый и последний день творенья,
когда не надо больше ничего.
«Тридцать первого утром…»
Тридцать первого утром
в комнате паркета
декабря проснуться всем нутром
и увидеть, как сверкает ярко та
ёлочная, увидеть
сквозь ещё полумрак теней,
о, пижаму фланелевую надеть,
подоконник растений
с тянущимся сквозь побелку
рамы сквозняком зимы,
радоваться позже взбитому белку,
звуку с кухни, запаху невыразимо,
гарь побелки между рам пою,
невысокую арену света,
и волной бегущей голубою
пустоту преобладанья снега,
я газетой пальцы оберну
ног от холода в коньках,
иней матовости достоверный,
острые порезы лезвий тонких,
о, полуденные дня длинноты,
ноты, ноты, воробьи,
реостат воздушной темноты,
позолоты на ветвях междуусобье,
канители, серебристого дождя,
серпантинные спирали,
птиц бумажные на ёлке тождества
грусти в будущей дали,
этой оптики выпад
из реального в точку
засмотреться и с головы до пят
улетучиться дурачку,
лучше этого исчезновенья
в комнате декабря —
только возвращенья из сегодня дня,
из сегодня-распри —
после жизни толчеи
с совестью или виной овечьей —
к запаху погасших ночью
бенгальских свечей,
только возвращенья, лучше их
медленности ничего нет,
тридцать первого проснуться, в шейных
позвонках гирлянды капли света.
Вещь в двух частях
1
Обступим вещь как инобытие.
Кто ты, недышащая?
Твоё темьё,
твоё темьё, меня колышущее.
Шумел-камышащее. Я не пил.
Всё истинное – незаконно.
А ты, мой падающий, где ты был,
снижающийся заоконно?
Где? В Падуе? В Капелле дель
Арена?
Во сне Иоакима синеве ль
ты шёл смиренно?
Себя не знает вещь сама
и ждёт, когда я
бы выскочил весь из ума,
бывыскочил, в себе светая
быстрее, чем темнеет тьма.
2
Шарфа примененье нежное
озаряет мне мозги.
Город мой, зима кромешная,
не видать в окне ни зги.
Выйдем, шарф, укутай горло и
рот мой дышащий прикрой. —
Пламя воздуха прогорклое
с обмороженной корой
станет синевой надречною,
дальним отблеском строки,
в город высвободив встречную
смелость шарфа и руки.
«Я вотру декабрьский воздух в кожу…»
Я вотру декабрьский воздух в кожу,
приучая зрение к сараю,
и с подбоем розовым калошу
в мраморном сугробе потеряю.
Всё короче дни, всё ночи дольше,
неба край над фабрикой неровный;
хочешь, я сейчас взволнуюсь больше,
чем всегда, осознанней, верховней?
Заслезит глаза гружённый светом
бокс больничный и в мозгу застрянет,
мамочкину шляпку сдует ветром,
и она летящей шляпкой станет,
выйду к леденеющему скату
и в ночи увижу дальнозоркой:
медсестра пюре несёт в палату
и треску с поджаристою коркой,
сладковато-бледный вкус компота
с грушей, виноградом, черносливом,
если хочешь, – слабость, бисер пота
полднем неопрятным и сонливым,
голубиный гул, вороний окрик,
глухо за окном идёт газета;
если хочешь, спи, смотри на коврик
с городом, где кончится всё это.
Художник
Анатолию Заславскому
1
C Колокольной трамвай накренится
к преступившему контуры дому.
Всё в наклоне вещей коренится,
в проницательной тяге к разлому.
Там прозрачные люди плащами
полыхнут над асфальтовой лужей,
и, сомкнувшись у них за плечами,
воздух станет всей улицей уже,
и прикурит в привычном продроге
человек, на мгновенье пригодный
дар свободы от всех психологий
воспринять как художник свободный.
2
Кто сказал, что мир настоящий?
Да, темнело-светало,
но лишь неправильностью цветущей
можно поправить дело.
Видел я, как вращается шина,
видел дом кирпичный,
их уродство было бы совершенно,
если бы не мой взгляд невзрачный.
Я стою на краю тротуара
в декабрьском дне года,
слыша песню другого хора —
кривизною звука она богата.
Нет в ней чувств-умилений,
есть окурок, солнце, маляр в извёстке,
в драматичной плоскости линий
сухожилия-связки.
Воскресение
Это горестное
дерево древесное,
как крестная
весть весною.
Небо небесное,
цветка цветение,
пусть настигнет ясное
тебя видение.
Пусть ползёт в дневной
гусеница жаре,
в дремоте древней,
в горячей гари,
в кокон сухой
упрячет тело —
и ни слуха ни духа.
Пусть снаружи светло
так, чтоб не очнуться
было нельзя, —
бабочка пророчится,
двуглаза.
1991–2000 гг.
Запасные книжки
Часть первая: чередования
***
У Ходасевича: «…мне хочется сойти с ума…» – эти слова равны большинству жизненных ситуаций. Простота и максимальность выражения. Как у Пастернака: «Снег идёт, снег идёт…»
***
Почему что-то запоминается? Я слышу, например, несколько нелепых фраз из детства, совершенно незначительных. Почему запали именно эти клавиши? Помню мальчика Юру, восклицающего по поводу чьей-то реплики: «Вот сморозил!», – и учительницу, усиленно хвалящую его за неожиданное и точное слово…
Почему бывают мгновения, которые, кажется, запомнятся надолго, и почему нельзя при этом сказать близкому человеку: смотри, эта голая комната так освещена, эта железная сетка кровати, эта бутылка, которую мы только что распили в честь новоселья, эта сетка, эта бутылка, мы с тобой (я на подоконнике, в пальто, ты в углу), яркая и безумная лампочка на скрученном шнуре, – так расположены, что мы запомним… Нельзя. Из боязни спугнуть ангела гармонии и отохотить его навсегда от своей памяти.
***
Чем отличается роман от малой формы? – автором: вступая в единоборство с тем, что его явно превосходит, он вынужден менять свою жизнь.
***
Когда переходишь трамвайные пути, чувствуешь, как мгновение назад тебя переехал трамвай.
***
Выступление делегатов съезда. Очевидно определяющее значение речи.
Речь (в чистом виде) – звук, колебания которого затухают во времени. Речь последующего реально забивает речь предыдущего, одерживая физическую победу. И ничего не происходит.
***
Неподалёку девушка с кофе. За её столиком, спиной ко мне, пара – он и она то и дело удобно ссутуливаются над чашечками. Смотрю на девушку – она обводит зал пустоватым взглядом: то ли равнодушно ждёт кого-то, то ли ей просто скучно…
Её соседи вскоре ушли, оставив на тарелке несколько скомканных бумажек и пирожное-трубочку. Девушка в очередной раз обвела зал своим бледным взором и спокойно переложила пирожное к себе в тарелку. И задумалась.
Подошла уборщица, стала протирать её столик тряпкой…
Я отвлёкся, посмотрел в окно и поймал себя на том, что мгновение назад похолодел, подглядев эту сцену. Не от страха за девушку (ведь она могла встретиться глазами со мной и смутиться), не потому, что её действие было незаконно… Скорее, открылся нерв общей тоскливости этого дня, скользившего незаметно, ровно, бесцветно, как небо между голыми деревьями садика за окном. Особенно тоскливо, потому что окно ещё и мутновато отгораживало острый осенний воздух. И вдруг бесконечному однообразию потребовалось выражение, та запредельная нота, которая прервала бы незаметный ход дня и провалила бы его в недогоняемую, бездонную пропасть с головокружением и тошнотой. Не хотелось ни настигать, ни продлевать этот холодок. Поэтому я вновь взглянул на девушку, её задумчивость исчезла вслед за уборщицей, и она с тем же спокойствием, с каким только что «объявила» тоску этого дня, доедала пирожное-трубочку.
***
У каждого города свои подмышки.
***
У Фолкнера – чёрная гармония (вроде чёрного юмора). Его упорство по достижению этой гармонии чуть ли не тупое. В том смысле, в каком может быть тупой последовательная мощь, верящая в себя, как в Бога.
***
Физиология объективна. В боли нельзя усомниться. Раз болит – болит, и нет вопроса, верят ли тебе. Физиология прозы, стиха – это то, что прожито животом, то, по чему идёт читатель, как собака по следу. В этих «физиологических» точках произведение смыкается с физиологией как таковой. Толчки мысли «Толстоевского» ощутимы. Вероятно, чем больше скручен страданием и болью автор и чем яснее он может их видеть, как бы последним усилием воли откачнувшись от них, – тем с большей внятностью он проталкивается сквозь тебя. (Известное: «Чтобы хорошо писать, страдать надо, страдать!» Достоевский – Мережковскому.) У Чехова другой физиологический атлас, более доступный или приемлемый, как раз потому, что менее настырный. Вот в «Почте» он описывает студента после ночной осенней езды в тарантасе, на рассвете: «…Студент сонно и хмуро поглядел на завешанные окна усадьбы, мимо которых проезжала тройка. За окнами, подумал он, вероятно, спят люди самым крепким, утренним сном и не слышат почтовых звонков, не ощущают холода, не видят злого лица почтальона; а если и разбудит колокольчик какую-нибудь барышню, то она повернётся на другой бок, улыбнётся от избытка тепла и покоя и, поджав ноги, положив руки под щёку, заснёт ещё крепче. Поглядел студент на пруд, который блестел около усадьбы, и вспомнил о карасях и щуках, которые находят возможным жить в холодной воде…» Не случайно мысль проникает за стены усадьбы, а затем «вскрывает» и пруд – то же проявление физиологической основы (недаром и Чехов – врач).
Это и свобода. Перо поспевает за воображением и доверяет ему. Доверчивость – следствие той самой, объективной для автора, «боли». Вот ещё несколько точек чеховского атласа:
«И почерк у него был мечтательный, вялый, как мокрый шёлк».
«В руке, которую поцеловала Кисочка, было ощущение тоски» («Огни»).
«…И теперь ещё, казалось, от прежних объятий сохранилось на руках и лице ощущение шёлка и кружев – и больше ничего…» («Супруга»).
«…И ногу, которую он поцеловал, она поджала под себя, как птица <…> и ей даже казалось, что она нетвёрдо ступает на ту ногу, которую он поцеловал» («Три года»). «Но ничего не было так страшно для Якова, как варёный картофель в крови, на который он боялся наступить…» («Убийство»).
Это нервные узлы произведений. Это природа автора, т. е. то, что нельзя придумать, подобно восклицанию Ивана Дмитрича из «Палаты № 6»: «Радуюсь!» Вполне «достоевское» восклицание – напрорыв из самого нутра.
***
Поэт Я. выглядел так, словно коллеги, здороваясь с ним, на протяжении многих лет пожимали ему лицо.
***
Говорит депутат: «Приходится много тратить времени, в том числе личного…»
***
Есть жизнь, текущая лишь в снах. Через год, два, три – вдруг снится сон, продолжающий другой сон. Эти люди, эти вещи, эти ситуации есть только там. Удивительно. Проснувшись, ты вспоминаешь, что уже видел этого человека, и – со странным чувством: тоже во сне.
***
Говорит соседка:
«Племени в касрульке…»
«Я стирала шлага, стирала на пижнаке твоём шлага… А она как было, как и есть…»
«Сотрясение мазок…»
***
У Фолкнера – не напряжение жизни, а напряжение чувственных точек (расположенных уникально, как и у всех прочих), которыми он воспринимает действительность. Но использование всех точек не дало бы напряжения. Фолкнер интуитивно отбирает лишь самые физиологические, самые отстоящие от нормальной жизни (благодаря чему – «разность потенциалов»).
Вообще, жизнь во всей полноте – лишена напряжения. Следует вырвать романом из неё кусок, чтобы её увидеть (конечно, уже искажённую), точнее – увидеть способ видения Фолкнера, расположение его извилин. Отстояние точек от нормальной жизни делает тем более привлекательным возврат к ней. В момент какого-нибудь страстного описания сказать, что «цвели глицинии» и т. д. Это раскачивание огромного маятника.
Фолкнер пишет субъективный эпос. То есть скорее эпос человеческой души, чем истории. Объём изображения (кроме маятника) создаёт ещё одна вещь: постоянные забегания вперёд (по времени) и отбегания назад, с недомолвками, постепенно обрастающими «домолвками» и т. д. Чисто пространственно это представляется так: Фолкнер растыкивает свою прозу наугад (как бы) вокруг себя в объёме шара – то ближе, то дальше, то повторяя движение по тому же радиусу, но в новую точку… – пока весь объём не забит до отказа. Тогда этот ком покатился… Герой тоже движется крупно. Мисс Роза («Авессалом, Авессалом!») замирает у двери (за которой убитый Бон) на несколько страниц. Один взмах руки может длиться несколько лет. Человек словно бы не живёт ежедневными мелочами, но, подчиняясь Року, копит их, слагает ради взрыва единой составляющей, которая указывает – куда в действительности были направлены «мелочи». Человек напряжённо ждёт, провидит себя между взрывами и поэтому не рассыпается, крупен и целен. Он слит волей Рока и внутренней волей, ей подчинённой.
***
Из пункта А в Б в медленном трамвае можно добраться всё-таки значительно быстрее, чем поспешая пешком. Но это лишь в астрономическом времени. Психологическое время – ему обратно, и реальностью является именно оно. Торопясь пешком, я спокоен (хоть и опаздываю), в трамвае я психопат (хоть и успеваю). Если бы человек жил, не ведая астрономического времени, он бы и жил неведомо сколько. Психологическое время не есть срок, нервирующий и раздражающий, предписанный, оно не навязанная форма, а содержание существа. Короче говоря: абсолютное время, возможно, и форма материи (её разрывающая), но психологическое время, несомненно, содержание.
***
У Пушкина: «…вознёсся выше он главою непокорной Александрийского столпа…» «Выше» отстоит от «столпа» на эту долготу задирания головы. Ай да Пушкин.
***
Узнав, что его другу плохо, в приливе сочувствия, К. написал ему письмо, и чуть ли не сразу его охватил стыд, чуть ли не с последним словом письма. Он боялся вникнуть – почему. Так случается, когда ответ растворён в твоём существе и просто не сформулирован, и знаешь, что малейшим усилием ты его можешь кристаллизовать, но медлишь. И вот, накатывая, как волна… как волна, омывающая всё больший кусочек суши, ответ проступает и останавливает внутреннее бегство стыда. Всё ясно – письмо с неточной интонацией. Всего лишь? О, этого достаточно, чтобы свести счёты с жизнью. К. мучается, его не утешает, что друг, зная то же самое по себе, сделает скидку, а то и вовсе постарается не обратить на это внимания.
***
Чётные числа чем-то хуже нечётных.
***
Перечисления. Гоголь доводит их до необычайного. Идёт накопление более или менее скучного количества, которое взрывается новым качеством (как правило, в юмор). Лирическое отступление о дверях, о том, как какая дверь скрипит, заканчивается: «…но та, которая была в сенях, издавала какой-то <…> звук, так что <…> очень ясно, наконец, слышалось: “Батюшки, я зябну!”…» Пустой тупик диалогов, этот абсурдный юмор, вроде того колеса, которое докатится или не докатится до Москвы… – тоскливое открытие.
– Я сам думаю пойти на войну; почему же я не могу идти на войну?
– Вот уж и пошёл! – прерывала его Пульхерия Ивановна. – Вы не верьте ему, – говорила она, обращаясь к гостю, – где уж ему… Его первый солдат застрелит…
– Что ж, – говорил Афанасий Иванович, – и я его застрелю.
Хармс читал Гоголя, не так ли? Но Гоголь имел в виду не только Хармса. Аф. Ив. плачет, вспоминая жену через пять лет, и автор видит «слёзы, которые текли <…> накопляясь от едкости боли уже охладевшего сердца». Плотное платоновское проталкивание в точность.
***
В школу, где я учился, привели Достоевского. Двое под руки вели мертвеца. Труп не шёл, а как-то вываливался из их рук вперёд, а те с трудом направляли его в двери классов. С закатившимися глазами и чёрным, одновременно впалым и шишковатым лицом, Достоевский наводил на учащихся ужас – от него шарахались. Потом, однако, я понял, что у него был припадок. Я понял это, увидев его чуть позже выходящим из школы. Всё так же под руки его вели двое, но сам Достоевский шёл мёртво-спокойной походкой, лицо его было пухлым и припудренным, припадок закончился… Но это уже был труп настоящий…
***
А. Белый. «Петербург».
Холод. Всё сведено к нулю. Как в этом куске:
«Аполлон Аполлонович подошёл к окну; две детские головки в окнах там стоящего дома увидели против себя за стеклом там стоящего дома лицевое пятно неизвестного старичка. И головки там в окнах пропали». 1-я и 4-я строки, описывающие действие в противоположных домах, имеют равное количество слов; то же происходит и по обе стороны от слов «против себя».
В абсолютной симметрии абсолютной. В сказался отец-математик сказался симметрии
***
Иногда с удовольствием читаешь слабые стихи. Иногда полная беспомощность роднее олимпийского умения, силы и пр. Всё равно что посмотреть телевизор.
***
Культура прошлого хороша тем, что не устраивает тебе семейного скандала.
Культуры настоящего нет. Есть сплошной скандал.
***
Письма Николая Григорьевича, механика, моего сослуживца, – Гале, милиционерше, матери-одиночке, периодически охранявшей здание архива, где мы работали. Николай Григорьевич был безответно в неё влюблён. Последнее письмо написано, конечно, им же, но от имени неведомого В. Лаптева.
Орфография и пунктуация – Николая Григорьевича.
1
Галя! Я тебе всегда хотел только хорошего в жизни, и сейчас желаю всего хорошего, хорошо отдохнуть, набраться здоровья. Я на тебя грязь не лил, и этого не будет никогда. Как бы мне не было трудно, тяжело. Грязь идет от Чесноковой. Болтай с ней больше, она у тебя всё выпытает. Ты простая. Сейчас все люди злые и смотрят, как бы устроить зло другому. Ты мне много делала зла, а я делал и буду делать только хорошее. Ты уже перестала понимать что такое зло, что добро, не различаешь чёрное от белого. А в жизни надо различать. Неужели ты в себя потеряла веру, что никто не полюбит, никто со мной жить не будет, и я не выйду замуж. Ты говоришь будешь жить одна. Одной жить невозможно. За жизнь надо бороться, а не идти по течению жизни. Скука, жизнь убивает человека. Так делать нельзя: понравился я и идём. Даже надо выбирать друзей и подруг. С кем поведёшься того и наберёшься. Что говорить жизнь есть жизнь. Но, а этот поступок выходит за все пределы. Ты потеряла свою голову, потеряла рассудок, потеряла ум. С кем ты связалась. У него жена, которую он очень хвалит, у него двое детей, которых он любит. Вот мой разговор с Олей-уборщицей, которая убирает твой коридор. – Оля, как ты смотришь на эти сплетни? – Да, я слыхала. Конечно, не наше дело, у каждого своя голова на плечах. – Я считаю, Галя перестала уважать себя, Галя перестала любить себя и можно сказать она не хочет жить. Оля говорит: я этого Серёжу, хоть он и более красив, я его ненавижу. Он нахальный грубый идиот. Я с ним вместе поссать не сяду. Про Галю я и верю и нет. Конечно, по его поведению и разговору можно и поверить. Я спрашиваю: наверно, Галю смутили кролики, наверно наелась кроликов. Оля отвечает: дядя Коля, от этого жадюги не дождёшься не только кролика, у него соли не выпросишь, он жаден. Что заставило Галю с ним связаться, не пойму. Да, Галя, у меня у самого такие мысли: что тебя заставило с ним связаться? Сильно жизнь принудила. У тебя был не плохой выход. Ты говорила: дядя Коля, приходи. Я пришёл поговорить. Ты меня оскорбила. Что с тобой связываться. Не добавила: я с механиком связана. Мне кажется прошло немного и всё раскрылось. Я тайну любую пронесу всю жизнь. Я не буду краснеть как рак. Большой слюнтяй твой Серёжа. Галя, я с Олей, Раей говорил, чтобы дальше нас никуда не разошлось. Думаю дальше не разойдётся. Я тебе плохого не хочу. Тебя накажет сам бог. Напиши хоть пару слов, если будешь рядом. Заходи.
2
Галю, Юлочку и маму поздравляю с праздником Нового 1984 года. Желаю всем хорошего настроения. Самого крепкого здоровья. Гале желаю в Новом году выдти замуж. Желает кусок заразы, дикий крокодил.
3
Галя! Здравствуйте. Не хотели Вас беспокоить до Нового года. Знаем, что и сейчас Вы не совсем здоровы. Извините, что адрес Ваш узнали у дежурного по дивизиону. Во время твоей болезни эти сволочи шептались на кухне – Байкеев, Чекмарёва, Марина, Таня-татарка, с ними Чеснокова. И сейчас эти «люди» тебя окружают. Что они ещё хотят? Устроить посмешище? Или вызывают тебя на публичное оскорбление. Что нам известно: Сотсков поделился с Тишиным, Тишин с Инной, со всеми женщинами Байкеев в дружбе. Он подхватил и разнёс по всему архиву. Даже разнёс, что Николай Григорьевич тебе звонит. Николая Григорьевича мы считаем добрым, хорошим человеком. Не думаем, чтобы он делал кому-то плохое. Галя, пойми, кто тебе льстит, кто хочет хорошего. Да и ты умная женщина, всё понимаешь. Не давай этим паразитам вести себя за повод. Что было, то было, может и побаловалась. Лучше всё кончить и послать всех – и Сотскова, и Байкеева на хер. Такая жизнь до хорошего не доведёт. А если ты с ним пойдёшь – берегись. Они пытаются уволить Николая Григорьевича – дело Байкеева отомстить. Будь во всём осторожна. Извини за беспокойство.
В. Лаптев
***
Голос в автобусе: «Женщины выносливее мужчин по выносливости!»
***
Аристократ владеет тайной (речь не о происхождении; хотя слишком часто это связано – ведь история рода, хранимая его продолжателями, постепенно уходит в тайну, становится таинственным припоминанием) и являет её (в искусстве, например).
Разночинец знает о тайне и её провозглашает (а мог бы – разгласил).
В этом суть и истоки идеологического искусства, вообще идеологии, а именно: животной, лишённой тайны, жизни.
«Культура – способность удержания тайны».
***
Иногда взрослый, много страдавший человек всё равно идиот.
***
Стоит ли провести жизнь в вечном недовольстве собой? Если любовь – это дар, который удерживают немногие, то, по крайней мере, разум – привилегия большинства. Разум говорит просто: не убивай, не прелюбодействуй, не кради и т. д. Жизнь в разуме – непрерывное внимание, выполнены ли его требования. И вот когда он терпит поражение, ему остаётся последний спасительный ход: увести своего обладателя от людей (и значит – от проявления нелюбви, «забыть» свою нелюбовь). Монашество может начинаться не с любви к Богу, а с нелюбви к людям. Это разумное безрадостное монашество, которое, вероятно, не выдерживает слишком тяжёлых испытаний, но всё же это путь героев, которым надежда на просветление маячит, путь, где изнурением плоти, кажется, можно потрясти и преобразовать свою духовную основу и возродить её для любви.
***
Человека можно охарактеризовать коротко.
Ч. попросил своего друга, летящего в другой город, передать важное письмо, от которого зависела карьера Ч. Получив известие об авиакатастрофе и гибели друга, Ч. подумал: «Боже! Моё письмо!» – и только потом попытался устыдиться этой мысли.
***
У неё не тело, а полный Кранах.
***
Основа писательства – трезвость. Средства быть совершенно «пьяные».
достижения, однако, могут Очень точно применимы к этому размышления князя Мышкина перед припадком: «Что же в том, что это болезнь? – решил он наконец, – какое до того дело, что это напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, даёт неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни?»
***
Шарф «Айседора».
***
У него такая интонация… Что бы он ни сказал, какая бы это ни была резкость – он никогда не обидит. Он говорит, растягивая слова, словно испытывает их мягкость. Вогнутой интонацией он как бы пытается снять их шершавость. Иногда мне кажется, что в нём одном жестокость выглядит как мягкая уклончивость и что только много страдающий человек обладает такой честной и точной приспособляемостью.
***
Достоевский близок двадцатилетним. Пушкин «старше».
Достоевский описывает бездну, познаёт её. Пушкин – уже знает, подразумевает, незачем описывать. (То самое – аристократическое и разночинное – сознание.)
***
Нет ничего жальче и обиднее подлинного чувства, которое хочет, но не умеет себя выразить. «О, как ты обидна и недаровита…»
***
Этот фильм – видение режиссера. Свойство видения – его абсолютность, или абсолютная закономерность, притом что движение закона – непредсказуемо. Просто подчиняешься ему, но сказать, в чём он состоит, – невозможно. И даже любая символическая трактовка всё более затемняет дело, связи рушатся.
Но как отказаться от понимания, от расшифровки, как не убить закон? Могу я смотреть и видеть? Это видение подобно человеку, который не может никому объяснить феноменальность своей жизни: он жив, он сейчас и это. Но он отделён оболочкой, и за неё не пробиться. Это видение подобно картинам детства – горящим шарам памяти. Любая баснословность происходящего там – неудивительна, закономерна, я могу ей полностью довериться.
Это видение (как сон) со своим законом.
Можно ли сказать о человеке (или о пейзаже) что-нибудь одно? Или два? Можно сказать сто, но это не лучше, чем одно. Сто рассыпется на единицы. И только видение стремит бесконечный ряд к пределу. Точнее: это тот предел, который раскручивается в бесконечность человека, пейзажа и т. д.
***
Бессонница. Гарем. Тугие телеса.
***
Плохое государство меня грабит, чтобы надругаться, хорошее —чтобы облагодетельствовать.
***
Если человеку за тридцать, а он всё ещё авангардист (модернист, концептуалист и пр. -ист), то это уже признак слабоумия.
***
Монолог одного художника:
«Живописец ежеминутно отказывается от эксплуатации приёма, им же найденного, то есть от того, чем несомненно может угодить зрителю, то есть от таланта, по сути дела. Это приводит, как правило, к нулевому результату, и мы можем судить лишь о степени отказа художника от себя, о тех, извините, жертвах, которые он принёс… Но как об этом судить, если мы видим ничто, самого художника, слава богу, не знаем и процесс работы от нас скрыт? Степень отказа может знать лишь он сам. Поэтому так нелепы и безответственны оценки (“бездарно”, “гениально” и пр.). Мы проставляем их, когда ничего не понимаем, но хотим уважить себя любовью к художнику. На самом деле он к картине отношения уже не имеет. Всё, что он мог: отказаться от лёгкой добычи, – он сделал. И это чистая случайность, что работа, в которой всё – отказ, одарена чем-то, что удерживает нас рядом с ней, и художнику тут гордиться нечем».
***
Автор фильма словно нарушает любую возможно-логическую версию. Не сразу, а лишь когда версия уже ветвится. Едва намечаешь ход понимания – шаг, ещё шаг, едва путь затягивает, как ты всё менее уверен, всё больше вариантов, что-то спутывается, ясности нет и, наконец, остановка. Куда идти дальше? Зачем идти, если разгадка – всего лишь развёртка объёма, лишённая жизни?
***
Напечатайте эту книгу. Можете вымарать Просто – всё. Книга хуже не станет. всё, что вам не нравится.
***
Если есть зебры, почему бы не быть арбузам?
***
Когда Пушкин воскликнул: «Ай да сукин кот!», закончив «Бориса Годунова», когда Блок записал: «Сегодня я ге», закончив «Двенадцать», – я думаю, они испытывали одно и то же. Внутренний толчок завершения. Произошла чузнь, образовалось жидо. Эти вещи похожи в главном – в явной гармонии. Вдруг всё уравновешено и замкнуто, гоголевский «Нос» пошёл гулять сам по себе… Поэтому, например, «Двенадцать» идеологи могут понимать как произведение советское или антисоветское и т. д. – лишь по причине невероятности, невозможности идеологического взгляда на поэму… («Поэзия выше нравственности». Пушкин плюс Блок – блошкин пук.)
***
В отличие от собрания, человек не состоялся.
***
Обычный (талантливый) человек притворяется равным всем, хотя он никому не равен. Он не хочет упрёка в оригинальничанье, не хочет раздражать. Это сиюминутное, немужественное человеколюбие пошлости. Но вот гений – сплошные странности (хотя и очевидные странности – мы-то все узнали себя в нём, потому и оценили). Гений – разновидность сумасшедшего, он не соотносится с окружающим.
Он жесток. Возможно, он нравственная категория.
***
Человек у Достоевского – существо, которое мыслит назло. Назло себе, назло предыдущей своей мысли. Отсюда – бесконечное вкапывание себя.
Это в высшей степени «умышленное» существо.
Грех по Д. – поле для испытания человека, тем более удобное, что бесконечное. Человек у него не просто грешен, но утверждает: да, да, грешен, да, да, низок, и паду ещё ниже, и буду ещё грешнее, так что уж испытаю наслаждение от своей мерзости – ведь не дам себя унизить ни раскаянием, ни вашим прощением, это было бы уже ограничением меня, некая ко мне жалость… Так вот, самоутверждаясь в грехе, человек Д-го делает поле греха растущим в прогрессии взаимно отражающихся зеркал – и, стало быть, безграничным. На другом полюсе – человек (князь Мышкин, Алёша), который в великой любви страдает за последнего преступника. «Величина» его любви (и непременно вины) пропорциональна безграничности преступления. (В чём вина? Не в том ли, что он видит преступление как преступление? То есть осмеливается хотя бы на секунду судить?)
И всё же любовь (в отличие от греха) не безгранична. Видя самоё себя, она склонна непрестанно корить себя в недостаточности. Любовь в самооценке (а куда деться от разума-оценщика?), в отличие от греха, не самоутверждается, – наоборот, видит, что ущербна в своей оглядке. В системе взаимно отражающихся зеркал она тает, а грех множится.
То есть грех, поскольку он целиком в системе человеческих координат, абсолютен, а любовь, захватывающая и недосягаемую для человека область, относительна. Но если она не бесконечна, то сразу – мала.
Но ни тот ни другая (грех, любовь) не свободны. Свобода – это спонтанность, когда проблемы выбора нет, есть – совершаемый выбор. Человек же страдающий (грешный, любящий ли) всегда мыслит, всегда в проблеме, всегда сомневается, – и таков он у Д-го.
Поэтические открытия в слове. Берётся длиннейший, порой неуклюжий, разбег каким-нибудь монологом, и вдруг выборматывается или выкрикивается весь характер или всё состояние разом: «Будьте уверены, благодушнейший, искреннейший и благороднейший князь, – вскричал Лебедев в решительном вдохновении, – будьте уверены, что сие умрёт в моём благороднейшем сердце! Тихими стопами-с, вместе!
Тихими стопами-с, вместе!..»
Характерно и обстоятельство «в решительном вдохновении». Герой Д-го то и дело взвинчивается до «решительного вдохновения», иначе он автору, в сущности, неинтересен.
***
Из размышлений критика: ирония бальзамирует тело стиха.
***
Торжества, посвящённые 100-летию А. А. Ахматовой.
Торжествующих представляют три лагеря:
1 – государственно торжествующие в Колонном зале (или где там ещё);
2 – хладнокровные литературоведы с открытиями;







