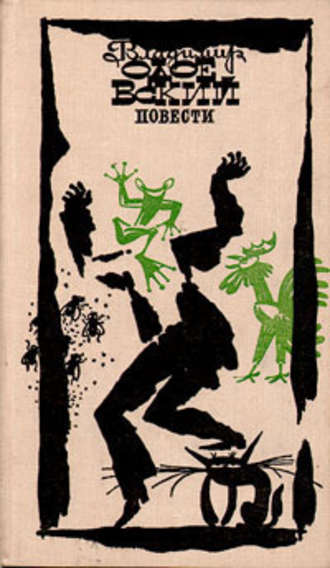
Владимир Одоевский
Саламандра
– А, так ты сердишься, зачем я плясал с Марьею Егоровною? Что ж за беда? Пора тебе привыкнуть к здешним обычаям…
– По нашему обычаю, только пляшут с своею невестою…
– Растолкуйте Лизавете Ивановне, – прервала Марья Егоровна, лукаво поглядывая на Эльсу, – чтобы она не забывала шнуроваться; маменька сердится, а мы никак ей не можем растолковать, что это неприлично.
Якко передал эти слова Эльсе. Эльса всплеснула руками.
– Ах, Якко, как тебя околдовали вейнелейсы. Все, что они ни выдумают, тебе кажется хорошо, а все наше дурно. Ну зачем они меня стягивают тесемками? Зачем? Расскажи! Им хочется только, чтоб я не могла ни ходить, ни говорить, ни дышать – и ты то же толкуешь. Ну скажи же мне – зачем шнуроваться? Что, от этого лучше, что ли, я буду?
Якко думал, что отвечать на этот странный вопрос, а между тем невольно смотрел на свою прекрасную единоземку.
Правда, грудь ее была полураскрыта, но эта грудь была бела как снег; локоны в беспорядке рассыпались по ее плечам, но так она еще более ему нравилась; туфли едва были надеты, но тем виднее открывали ножку стройную и красивую. Странные мысли боролись в душе молодого человека.
Эльса продолжала:
– Вот Юссо, так похитрее тебя – его вейнелейсы не могут обмануть; послушайка, что он говорит.
– Какой Юссо?
– Ты не знаешь Юссо, сына Юхано? Ты всех своих позабыл, Якко, вейнелейсы совсем отбили у тебя память.
– Где же ты его видела?
– Его вейнелейсы заставили везти сюда разные клади – я его тотчас узнала из окошка…
– Что же он тебе такое рассказывал?
– О! Много, много! У Анны отелилась корова, Мари вышла замуж за Матти…
– Что же еще он тебе рассказывал?..
– Ты хочешь все знать? – сказала Эльса, хлопая в ладоши с насмешливым видом, – пожалуй, скажу. Он звал меня с собою домой.
– Звал с собою?
– Да! Он похитрее тебя, он говорит, что как ни лукавы вейнелейсы, а им несдобровать, рутцы хотят еще раз напустить на них море…
– Что за вздор, Эльса… да ведь это сказка…
– Да! сказка! – Юссо не то говорит; он толкует, что нам, бедным людям, не годится жить с вейнелейсами; он сказал еще, что набрал здесь много денег за масло – вейнелейсам Бог и масла не дает… – Поедем, говорил он, со мной, я на тебе женюсь, денег у меня много, круглый год будем есть чистый хлеб.
– И ты согласилась?
– Нет еще, – отвечала Эльса лукаво, – я сказала, что спрошусь об этом у братца.
Марья Егоровна, видя, что ею не занимаются, вышла из комнаты.
Якко задумался. На что ему было решиться? – Дожидаться ли долгого, долгого образования полудикой Эльсы, подвергать ее всем неприятностям непривычной жизни или махнуть рукой и возвратить ее на родину. При мысли о родине сердце его билось невольно: Эльса, подруга детства, казалась еще прелестнее и расстаться с нею, расстаться навсегда – казалось ему ужасным. Эльса поняла действие своего рассказа; она захлопала в ладоши, прыгнула к Якко на колени, схватила его за голову, прижала к себе, свежая, атласистая грудь ее скользнула по лицу молодого человека, он вздрогнул и почти оттолкнул ее от себя.
Эльса заплакала. – Якко выбежал из комнаты.
– Он не хочет и целовать меня, – проговорила Эльса сквозь слезы, – о! это не даром, эта Мари приколдовала его; он с нею пляшет, он на нее так смотрит – хорошо, увидим… недаром старые люди меня учили…
С этими словами Эльса побежала в свою комнату – и дверь на крючок; через час она вышла и тихонько пробралась в комнату Марьи Егоровны; осмотрелась – видит: нет никого, поспешно приблизилась к постели и сунула что-то под перину.
Эльса обернулась, за нею машутся накрахмаленные лопасти чепчика, блещут глаза сквозь пару медных очков.
Из-под чепчика послышался грозный голос Анисьи-ключницы:
– Что ты это, матушка, здесь проказничаешь? – С сими словами старушка руку под перину и вынула оттуда маленький сверток; скорее к Федосье Кузьминишне – и началась потеха.
На общем совете с Анисьею и другими сенными девушками положено было раскрыть сверток. Раскрыли не без страха, не без приговорок – видят: две тряпочки, бумажка, уголек и глинка, все перетянуто накрест черною ниткою. Колдовство – нет ни малейшего сомнения.
За Эльсой – показывают – спрашивают – она лукаво смеется.
Уже поговаривали связать колдунью и представить в полицию, но, к счастью, возвратился Егор Петрович. Узнавши о причине суматохи, он наружно улыбнулся, но внутренне и сам притрухнул: "кто ее знает?" – подумал он. Помолчавши с минуту, он сказал: что мы ее спрашиваем? ведь она нас не понимает и рассказать не может. Полагать должно так, сглупа; вот вечером придет Иван Иванович, пускай он ее расспросит, что и зачем она это делала.
– Хорошо, батюшка, – отвечала Федосья Кузьминишна, – вы и видите, да не верите; быть по-вашему, только до тех пор позвольте мне припереть ее на крюк. Не шутка, батюшка, ведь Марья Егоровна-то нам не чужая. – Егор Петрович промолчал.
К вечеру выпустили бедную затворницу. Было уже около семи часов вечера; на дворе морозило; в гостиной Зверева затопили огромную шведскую печку; заслонки были распахнуты; свет из устья багровым туманом проходил по комнате; тень от окошек, освещенных полною луною, резко обозначалась на торцевом полу; две нагоревшие свечи стояли на столе и колебались от движения воздуха; все эти роды освещения мешались между собою; отраженные ими причудливые тени мелькали на потолке, на широком деревянном резном карнизе и на стенах, обитых черною кожею, с светящимися бляхами.
За столом сидели: Зверев, его жена и Якко. Казалось, они только что кончили длинный, неприятный разговор, за которым последовало совершенное молчание. Наконец, двери отворились, и вошла, как преступница, бледная, трепещущая Эльса. Якко с важным видом показал ей на стул, стоявший против огня. Эльса не хотела садиться, но Якко грозным голосом подтвердил свое приказание, и Эльса повиновалась.
Она села на стул, сложила руки и устремила в устье неподвижный взор.
– Не пугайся, Эльса, – сказал Якко по-фински, тихим голосом, – тебе никто не сделает зла; но скажи мне откровенно, что значит этот сверток, который ты видишь здесь на столе? Какое твое было намерение? – Эльса ничего не отвечала и все пристальнее устремляла глаза в устье очага; лицо ее разгорелось; локоны повисли на глаза; лунный свет широкою полосою ложился на ее белое платье; она трепетала всем телом, как пифия на очарованном треножнике. – Отвечай же, – повторил Якко, устремив на Эльсу сердитые глаза.
– О чем ты спрашиваешь меня, Якко, – наконец сказала Эльса прерывающимся голосом, – сверток безделица… ребяческая шутка… я думала этим средством отучить тебя от этой Марии, которая хочет отнять тебя у меня… Но теперь не то… совсем не то… теперь… я все знаю, все вижу; теперь я сильна, и вы все… ничто… предо мною…
– Что ты говоришь, Эльса? – сказал Якко с видимым смятением, – ты не помнишь себя.
Эльса засмеялась странным хохотом.
– Иль ты не видишь, – продолжала она, – там… далеко… в средине пламени… алые палаты моей сестрицы… вот она… в венке из блестящих огней; она улыбается… она кивает мне головою… она сказывает, что я должна говорить тебе…
Тут Якко вспомнил слова пастора, хотел броситься к Эльсе и прекратить ее очарование; но любопытство и какая-то невидимая сила удержали его на стуле.
Эльса продолжала:
– Я еще была ребенком, когда старый Руси брал меня к себе на колени и садился против огня; он накрывал руками мою голову и, показывая на устье печи, говорил: "Эльса, Эльса, смотри свою сестрицу". Тогда я, неразумная, боялась, хотела вырваться из рук старика, но невольно глаза мои устремлялись на огонь и скоро уже не могли оторваться; скоро в глубине, посреди раскаленных угольев, я видела, как теперь вижу, великолепные палаты; там столбы из живого пламени вьются, тянутся в небо и не тухнут. От них сыплются багряные искры и блестят на белой огнепальной стене: посреди тех палат мне являлось лицо ребенка, совершенно похожего на меня; оно улыбалось, манило меня к себе, исчезало в потоках пламени и снова появлялось с тою же улыбкою. – "Сестрица, сестрица, – говорила она мне, – когда же мы с тобой соединимся?" И сердце мое рвалось к прекрасному ребенку, и он все улыбался и манил меня. Стоило мне подумать о чем-нибудь или старый Руси спрашивал меня, и с дальней стены срывалася пелена, и я видела все, что на земле и под землею, и горы, и леса, и пропасти водные, и людей, и слышала, что они говорили, видела, что они делали. "Беги отсюда, – говорит мне теперь сестрица, – здесь развлекут тебя, удалят тебя от меня, погасят, ты отвыкнешь понимать язык наш! На берегах Вуоксы люди не совратят тебя, там сосны и утесы безмолвны, луна светит своей живительной силой и духотворит грубое тело; там в лучах луны, в потоках пламени мы сольемся веселым хороводом, облетим всю землю, и вся земля для нас будет светла и прозрачна". Слышишь, Якко, что говорит сестрица; тебя одного не достает нам; и тебя, неразумный, оживляла могучая сила старого Руси; ты наш, Якко! ты мой и ничто не разлучит меня с тобою; забудешь обо мне – вспомнишь в горькую минуту. Оставь этих людей, Якко; в наших живоогненных чертогах светло и радостно, там встретимся мы и в одну пламенную нить сольемся с тобою. Правда, еще не пришло мое время: скоро ли? спрашиваю у моей чудной сестры. – "Не скоро, – отвечает она, – все вырастает по степеням, как дерево из зерна. Сперва на земле, потом под землею, а потом… над землею, Эльса, и нет границ нашей силе и нашему блаженству!"
Якко не дал ей продолжать.
– Тут происходит что-то странное, – сказал он Егору Петровичу, – она вне себя; я вам советую послать за лекарем.
– Да что ж она вам сказала? – спрашивал Егор Петрович.
– Ничего, – отвечал Якко, – вы не должны ее бояться; она больна, на нее находит… Пошлите за доктором, повторяю вам, пусть он ее увидит в этом положении.
– Пожалуй, – отвечал Егор Петрович. – Иван Христианович недалеко от нас живет и по вечерам бывает дома. – Послали за лекарем, а Эльса все сидела против огня, то смеялась, то говорила непонятные речи, то складывала руки, как будто умаливая кого о чем. Якко с любопытством ее рассматривал, положив, во что б ни стало, дождаться разрешения этой загадки.
Через четверть часа пришел Иван Христианович, чопорный немец, в коричневом кафтане, с укладными пуговицами; в руках у него была трость с костяным набалдашником; он очень важно постукивал ею, поплевывая со стороны на сторону, ибо имел привычку беспрестанно жевать табак, что тогда почиталось универсальным лекарством от всех болезней.
– Где ж больная? – спросил он по-немецки.
– Меня почитают больною, – отвечала Эльса на немецком языке. Удивление Якко было невыразимо. Он знал, что в обыкновенном состоянии Эльса не знала ни слова по-немецки.
– Что же ты чувствуешь, мое милое дитя? – сказал Иван Христианович.
– Добрый лекарь, неразумный лекарь, ты хочешь лечить меня. Знаешь ли ты, кого ты хочешь лечить? Умеешь ли ты лечить огнем и пламенем? Смотри, сестрица смеется над тобою, добрый лекарь, неразумный лекарь.
Иван Христианович слушал, слушал ее с удивлением – нюхал табак и ничего не понимал.
Между тем огонь гас мало-помалу в очаге, луна сокрылась за ближним домом: с тем вместе уменьшалась говорливость Эльсы. Наконец она как будто проснулась.
– Где я? Что со мною? – сказала она по-фински. Доктор щупал у ней пульс, Зверев и Якко смотрели на нее с участием. Между тем Якко рассказал лекарю все происшедшее.
Нахмурив брови и усердно нюхая табак, Иван Христианович проговорил:
– Странное дело, но бывали такие примеры, от действия жара нервные духи подымаются и действуют на головной мозг; а оттого мозг приходит в нервное состояние, так и Цельзиус пишет; впрочем, пироманция, или гадание огнем, была известна и древним и производила у них подобные явления; странно, что она и доныне сохранилась. Но бояться нечего! Уложите больную в постель, я вам пришлю из дома одно славное лекарство, которое, как доказывает наш славный голландский врач Фан Андер [8], помогает от всех болезней, а именно: опиума. Давайте ей каждый день по четыре капли, да поите ее больше кофеем, и вы увидите, что всю блажь с нее как рукой снимет.
На другой, на третий день бедная Эльса в самом деле была больна от действия универсального лекарства, на четвертый она уж почти не вставала с кресел; то делалось у ней волнение в крови, то сонливость.
Бедное дитя природы ничего не понимала, что с нею делают: зачем держат ее взаперти, зачем вливают в нее какое-то снадобье, которого действие, однако же, казалось ей довольно приятным; но часто она забывала все происходящее, и все ее внимание обращалось к герою финских преданий, славному Вейнемейнену. Она вспоминала, как он из щучьих ребер сделал себе кантелу, как не знал, откуда взять колки и волос на струны, и в забытьи напевала:
Рос в поляне дуб высокий:
Ветви ровные носил он
И по яблоку на ветви
И на яблоке по шару
Золотому, а на шаре
По кукушке голосистой.
И кукушка куковала.
Долу золото струилось,
Серебро лилось из клева,
Вниз на холм золоторебрый,
На серебряную гору:
Вот отколь винты для арфы
И колки для струн взялися.
Из чего же струн добуду.
Где волос найти мне конских?
Вот, в проталине, он слышит,
Плачет девушка в долине,
Плачет – только вполовину,
Вполовину веселится,
Пеньем вечер сокращает
До заката, в ожиданьи.
Что найдет она супруга,
Что жених ее обнимет.
Старый, славный Вейнемейнен
Слышит жалобу девицы,
Ропот милого дитяти.
Он заводит речь и молвит:
"Подари мне дар, девица!
С головы один дай локон.
Пять волос мне поднеси ты,
Дай шестой еще вдобавок.
Чтоб у арфы были струны.
Чтобы звуки получило
Вечно юное веселье".
И дарит ему девица
С головы прекрасный локон,
Пять волос еще подносит,
Подает шестой вдобавок.
Вот отколь у арфы струны,
У веселья звуки взялись.[9]
Но вдруг голос Эльсы возвышается; глаза блистают, и она с гордостью напевает:
Так играет Вейнемейнен:
Мощный звон летит от арфы,
Долы всходят, выси никнут,
Никнут выспренные земли.
Земли низменные всходят,
Горы твердые трепещут,
Откликаются утесы,
Жнивы вьются в пляске, камни
Расседаются на бреге,
Сосны зыблются в восторге.
Сладкий звон далеко слышен,
Слышен он в шести селеньях,
Оглашает семь приходов,
Птицы стаями густыми
Прилетают и теснятся
Вкруг героя-песнопевца.
Суомийской арфы сладость
Внял орел в гнезде высоком,
И птенцов позабывая,
В незнакомый край несется,
Чтобы кантелу услышать.
Чтоб насытиться восторгом.
Царь лесок с косматым строем
Пляшет мирно той порою,
А наш старый Вейнемейнен
Восхитительно играет,
Тоны дивные выводит.
Как играл в сосновом доме,
Откликался кров высокий,
Окна в радости дрожали.
Пол звенел, мощенный костью,
Пели своды золотые.
Проходил ли он меж сосен,
Шел ли меж высоких елей —
Сосны низко преклонялись,
Ели гнулися приветно,
Шишки падали на землю,
Вкруг корней ложились иглы.
Углублялся ли он в рощи,
Рощи радовались громко;
По лугам ли проходил он, —
У цветов вскрывались чаши,
Долу стебли поникали.
Но часто слова песни сближались с ее собственным положением, и она жалобным напевом отвечала Вейнемейнену, когда он спрашивает плакучую развесистую березку, о чем она плачет:
Про меня иной толкует,
А иной тому и верит,
Будто в радости живу я,
Будто вечно веселюся.
Оттого, что я, бедняжка,
Весела кажусь и в горе,
Редко жалуюсь на муки,
У меня, у горемыки,
У страдалицы, ведь часто
Летом рвет пастух одежду;
У меня, у горемыки,
У страдалицы, ведь часто
На печальном здешнем месте,
Середи лугов широких
Ветви, листья отнимают,
Ствол срубают на пожогу,
На дрова нещадно колют.
Были люди и точили
Топоры свои на гибель
Головы моей победной.
Оттого весь век горюю,
В одиночестве я плачу,
Что беспомощна, забыта,
Беззащитна, я осталась
Здесь для встречи непогоды,
Как зима приходит злая.
И к концу песни Эльса начинала плакать и плакала горько. Так заставал ее Якко, и все его старание утешить, вразумить ее было тщетно. Странная привязанность к родине еще более усилилась в Эльсе ее затворничеством. Якко не знал, что и делать: в продолжение трех месяцев образование Эльсы нимало не подвинулось; ее понятия не развивались; все народные предрассудки пребывали во всей силе; оставить ее в доме Зверева – не было возможности; жениться на ней – одна эта мысль обдавала Якко холодом; он невольно сравнивал свое состояние с прекрасною машиною, в которой было только одно колесо неудачно сделанное, но которое нарушало порядок действия всех других колес; он не мог не сознаться, что Эльса была для него помехою в жизни; его внутреннее неудовольствие отражалось в его словах, а Эльса оттого еще пуще горевала.
А между тем Эльса была прекрасна, между тем в ее глазах светилось ему родное небо, баснословный мир детства, и Якко по-прежнему уходил домой с отчаянием в сердце.
Наступил ноябрь месяц. В продолжение нескольких дней лил сильный дождь, и морской ветер выгонял Неву из берегов. Однажды утром Якко сидел в уединенной комнатке, отведенной ему в адмиралтействе, и, углубившись в работу, не замечал, что вокруг него происходило; между тем весь город был в волнении, вода возвысилась непомерно, жители прибережных частей города перебирали свои пожитки на чердаки, а в некоторых местах уже взбирались и на крыши; высокой гранитной набережной еще не существовало; ныне незамечаемая прибыль воды в 1722 году была истинным бедствием для города; Якко взглянул в окошко: адмиралтейская площадь обратилась в море, по ней неслися лодки, бревна, крыши, гробы. Дом Зверева находился в части города, наиболее подверженной наводнению; мысль об участи, ожидавшей это семейство, поразила Якко; но как помочь ему, как дойти до него? Волны уже били в верхнее звено нижних этажей! В отчаянии ломая руки, смотрел Якко на разлив Невы и приискивал средство выйти из дома чрез окошко. В эту минуту он смотрит: небольшой катер с переломленною мачтою несется по Неве; два матроса тщетно стараются вытащить обломок мачты, погрузившейся в воду, или перерубить веревки; уже катер перегнуло на одну сторону; на корме стоит человек высокого роста; черные его волосы разметаны по плечам; одною рукою он стиснул руль, другою ободряет потерявшихся матросов, но – еще минута, и катер должен опрокинуться. Якко смотрит, не верит глазам своим – это сам государь!
При этом виде молодой финн забывает всю опасность. Сильною рукою он выбивает стекольную раму и бросается вон из окошка; в это время крепко связанный плот прибило к стене дома; от движения плота Якко сильно ударился головою об стену и почти в беспамятстве ухватился за скользкие бревна; в таком положении его застали люди, находившиеся на одной из адмиралтейских лодок.
Едва Якко пришел в чувство – первый его вопрос был о государе. "Пересел на другой катер", – отвечали ему; тогда Якко вспомнил снова о своем семействе, и лодка быстро повернула по направлению к дому Зверева. Подъезжая к нему, Якко увидел, что вода выливалась уже из окошек, – во всем доме не было и признака живого человека. Скорбь сжала сердце молодого финна; погибли последние люди, которых он мог называть родными. Но скоро внимание его было обращено на большой катер, который старался на веслах приблизиться к дому; смотрит, в катере: Зверев, жена его, все домашние – катер ближе, ближе, Якко различает всех в лицо и не видит – лишь одной Эльсы.
– А Эльса? – вскричал он в отчаянии.
– Не знаем! – печально отвечал ему Зверев.
Молодой человек упал без чувств в лодку.
К вечеру вода сбыла. Жители мало-помалу возвращались в дома, стараясь изгладить следы наводнения, и скоро в юной, отважной столице все пришло в обыкновенный порядок.
В спальной Зверева лежал наш Якко с распухнувшей головою и в припадке сильной горячки. Он метался на кровати, то произносил непонятные слова, то призывал домашних, Эльсу. Так прошли долгие дни. Наконец Якко пришел в себя, и первое лицо, которое узнала его ослабевшая память, была Марья Егоровна; она сидела возле кровати и с участием смотрела на больного.
– Где я? Что со мною? – спросил Якко.
– У людей, которые вас любят, – отвечал тихий голос.
Все возобновилось в памяти молодого человека; он взял Марью Егоровну за руку и крепко прижал ее к губам; Марья Егоровна опустила глазки и закраснелась.
Вошла в комнату Федосья Кузьминишна.
– Что сталось с Эльсой? – спросил Якко.
– А – слава Богу! Очнулся, батюшка – ведь три недели был в забытьи, легко ли дело; ну что твоя сестрица, – живехонька, батюшка – уехала к своим с каким-то чухною; уже мало ли Егор Петрович хлопотал, – насилу проведали, куда она запропастилась, на воск какой-то, что ли?
Действительно, во время наводнения, когда водою уже наполнился двор и Егор Петрович сбирался с домашними сесть на подъехавший с улицы адмиралтейский катер, в хлопотах забыли об Эльсе; в это время она была в своей комнате, выходившей окнами во двор и запертой по благоразумному распоряжению Федосьи Кузьминишны; бедная затворница с ужасом смотрела на прибывающую ежеминутно воду: – "все кончилось, – говорила она, – рутцы напустили на вейнелейсов море – все должно погибнуть; нет спасения" – и с сими словами она сложила руки, села против окошка и хладнокровно глядела, как вода уже приподнимала крышу низкого амбара. Вдруг смотрит, на дворе является лодка, в лодке знакомое лицо. Юссо, Юссо! – вскричала Эльса, отворив широкую форточку, – я здесь, я здесь! спаси меня!"
И ловкий финн приблизился к окошку, уцепился за ставни, помог Эльсе пробраться на свой челнок, усадил ее, ударил веслами, и скоро челнок исчез из вида. Между тем, садясь в катер, старик Зверев вспомнил об Эльсе; скорее к ней в комнату – нет ее, бегали по всему лому, всходили на чердаки – пропала Эльса; минуты были дороги, управляющий катером говорил, что он должен еще многим домам подать помощь – и Егора Петровича почти силою втащили в катер.
Якко с каждым днем оправлялся. Однажды, когда Марья Егоровна вошла к нему в комнату, он сказал:
– Вы уже забыли обо мне, Марья Егоровна, так редко навещаете меня.
– Когда вы были опасны, – отвечала девушка, – я, видит Бог, не отходила от вас; но теперь вы, слава Богу, уже начинаете выздоравливать, и мне одной с вами оставаться неприлично.
– Нет ли средства помочь этому горю? – сказал улыбаясь Иван Иванович.
– Какое же? я не знаю.
– Очень простое – быть моею женою! Что скажете вы на это, Марья Егоровна?
Марья Егоровна проговорила обыкновенное в таких случаях: "Я от себя не завишу", и молодой человек нежно поцеловал ее руку.
Со стариками было переговорено; они дали свое благословение. «Но прежде свадьбы мне остается еще одно дело, – сказал Якко Егору Петровичу, – я хочу устроить Эльсу».
– Доброе дело, – отвечал старик, – так и следует.
Через несколько дней сани мчали молодого финна к его родимому берегу. Верст за сорок до Иматры он уже стал спрашивать по хижинам об Эльсе, внучке старого Руси; но жители ему отвечали, что Иматра от них далеко, далеко и что они никого там не знают.
Верст за двадцать рассказы были другие, "как не знать Эльсы, – говорили финны, – такой знахарки у нас уже давно не бывало; все знает, что ни спроси; заболеет ли человек, али какое животное, придешь к ней, поклонишься – с живой руки снимет. Зато скоро счастлива будет; Юссо говорит, что непременно на ней женится".
Быстро мчались широкие сани по глубокому снегу, туман лежал на равнинах, зеленые ели тихо качались над сугробами, месяц мелькал из облаков и бледными его лучами прорезывались слои тумана – туман расседался, пропускал светлую полосу и снова заволакивал придорожные утесы. Грустно было на душе Якко – ехал он по земле родной, которая была уже для него чужая; иногда воображению его представлялся Петербург со своею деятельною, просвещенною жизнью, и снова невольно взор финна обращался на печальную картину родимого края.
Недалеко от Иматры Якко заметил в избушке, стоявшей уединенно посреди скал, необыкновенное освещение; частью любопытство, частью какое-то невольное чувство заставили его остановиться; Якко вышел из саней, – к избушке, смотрит в волоковое окно – там какой-то праздник – свадьба или что-то подобное. Рассмотрев попристальнее, Якко скоро заметил в избушке Эльсу; она в финском платье, довольно богатом, сидела на почетном месте, все обращались с нею с величайшим уважением, потчевали ее и кланялись. Эльса была весела и довольна и смеясь рассказывала, как рутцы напустили на вейнелейсов море и хотели утопить ее и как она с Юссо обманула их.
Якко задумался. «Здесь она весела, уважена всеми, говорит своим языком, она свободна, счастлива; там она печальна, связана во всех движениях, предмет насмешек и ненависти. Зачем я отниму у ней ее счастье в надежде другого, ей непонятного и, может быть, несбыточного?»
В это время Эльса встала, распрощалась с хозяевами, – почетнейшие пошли провожать ее, – толпа прошла мимо Якко, – он видел Эльсу в двух шагах от себя, – но промолчал и только печально смотрел вслед ей, пока она не скрылась в тумане. Тогда Якко вошел в хижину и, отдавая хозяину кошелек с деньгами, сказал: "Скажите Эльсе, внучке старого Руси, что Якко ей посылает это на свадьбу". – Якко знал честность своих единоземцев и был уверен, что кошелек дойдет по назначению. Пока хозяева удивлялись такому несметному богатству, Якко вышел из хижины, – взглянул еще раз на родные утесы:
– Последняя нить порвана, – сказал он самому себе, – земля моя – мне чужая. Прощай же, Суомия – прощай навсегда! И здравствуй, Россия, моя отчизна!
Молодой финн закрыл глаза рукою, бросился в сани, – колокольчик зазвенел!
На берегах Вуоксы до сих пор сохраняется предание о девушке, которую богатый барин увез было в Петербург и которая убежала от богатства из любви к своей лачужке; hассказывают и о том, как в старину незнакомые люди, или духи, в богатом платье, вдруг являлись в хижинах и оставляли на столе деньги, прося их отдать Эльсе, старой колдунье.







