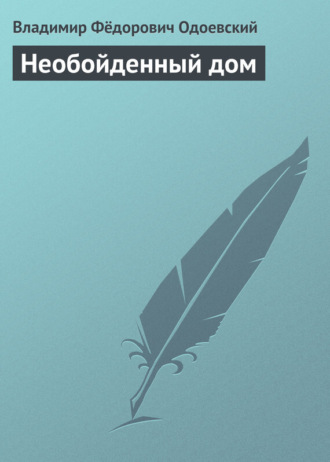
Владимир Одоевский
Необойденный дом
Он подал руку старушке, она оперлась на его клюку и потащилась в дом; в сенях старик поднял половицу.
– Ступай вниз, – сказал он, – да держись за верёвку, не то споткнёшься.
Старушка сошла в подполицу, тёмную, тёмную; свет проходил только сверху в отдушины; по стенам стояли ларцы, сундуки, скрынки, баулы разного рода, всякая посуда; по стенам развешаны ножи, ружья и всякого платья несметное множество.
– Это наша кладовая, – сказал старик, – не даром она нам досталась.
Старушка творила молитву и шла далее. Прошла одну горницу, другую, третью; видит, всё по порядку: в одной скарб домашний, в другой мужское платье, в третьей женское, камни самоцветные, жемчуг, серьги и ожерелья.
– Душно здесь что-то, дедушка, – сказала она.
– И мне душно, – вскричал старик. – Как подумаешь да погадаешь, что под этими платьями всё были живые люди и что ни один из них своею смертью не умер, то так мороз по жилам и пробегает; всё кажется, что под платьями люди шевелятся; ну да нечего делать, прошлого не воротишь; садись-ка вон там в уголку на сундук; там из отдушины ветерок подувает.
Старушка села, едва переводя дыхание; смотрит – над головою у ней платье камковое цареградское, сарафаны золотые, парчовые и под ними, прямо против её глаз, жемчужные, янтарные ожерелья, монисты, а между ними на бисерной нитке крест с ладанкою.
Старушка не взвидела света, схватилась за ладанку и горько заплакала.
– Скажи, дедушка, не обманывай, откуда ты взял это ожерелье?
– А что оно, знакомо тебе, что ли? – спросил старик, задрожав.
– Как не знакомо, – сказала старушка, – это ожерелье моего ненаглядного сокровища, моей дочери.
Старик повалился ей в ноги.
– Ах, мать родная, – завопил он, – кляни меня, – нету в живых твоей дочери; не пожалел я её красы девической; замучил я её вот этой рукою; билась она, сердечная, как горлица; молила меня, чтоб позволил ей хоть перекреститься, – и до того я её не допустил.
Старушка пуще заплакала.
– Ну, отпусти тебе Бог, – сказала она, – много греха ты принял на свою душу.
– Где Богу мне отпустить, – вопил старик в забытьи, – нету прощения грехам моим; нет мне спасения ни в сём, ни в будущем мире.
– Не бери ещё нового греха на свою душу, родимый, не мертви душу отчаянием: уныние – первый грех, покайся да молись, у Бога милости много!
– Что ты говоришь, мать родная, – вопил старик, – где Богу простить меня – да ведь и ты не простишь меня…
– Нет, не говори этого, родимой, Никола тебе навстречу, – как не простить; много ты согрешил, последнее моё утешение отнял, – но да простит тебе Бог, как я тебя прощаю… только покайся…
– И в молитвах помянешь грешного раба Фёдора?..
– И в молитвах помяну…
Старик пуще зарыдал.
– Нет, мать родная, уж не покину я тебя теперь, – жутко мне здесь оставаться; веди меня куда хочешь, где бы я мог тебе на свободе свою душу раскрыть, все грехи мои исповедать, наказанье принять.
– Не моё то дело, родимой; а если Бог твою мысль просветил, то иди в пустынь, спроси настоятеля, он тебе укажет, что делать.
Они вышли из дома, солнце заходило, лёгкий ветерок повевал с востока; в пустыни слышался благовест ко всенощной[6]. Недолго шли старик со старухою – пустынь была в полверсте, не больше, – и дорога из леса шла к ней прямая.
Божий храм сиял во всём благолепии; тысячи свеч блистали у золочёных икон; невидимый хор тихо пел славу Божию; дым из кадильниц подымался ввысь светлым облаком; на паперти, в притворе[7] стояла толпа народа; едва старушка могла пробраться в церковь. В толпе кто-то сказал ей на ухо: «Помолися о грешном рабе Фёдоре». Старушка перекрестилась, стала к сторонке и горячо молилась сперва о грешном рабе Фёдоре, потом и об убиенных им, а потом и о себе грешной, – молилася не без слез, но с верою и надеждой.
Всенощная отошла; миряне стали подходить к иконам; и старушка поднялась с места. Смотрит – перед нею идёт светло-русый мужчина с виду лет пятидесяти, здоровый и свежий; за ним, видно, жена его и дети уже на возрасте; а за этою семьёю – другая, женщина лет пятидесяти, с нею муж и также дети на возрасте. Сердце забилося у старушки – вспомнила она про детей. «Теперь и они были б такие»; утёрла слезу рукавом, перекрестилась и пошла также к иконам прикладываться. Приложилась – вышла на паперть, – смотрит, а за нею идут обе семьи и пристально на неё смотрят; старушка обернулась – лампадою от иконы осветилось лицо её. Светло-русый мужчина подошёл к старушке, поклонился и начал было: «Позволь тебя спросить, бабушка…» – да как заплачет, да как кинется ей в ноги: «Ты ли это, наша мать родная? Где ты была, куда пропадала? Мы уж тебя и в живых не чаяли».







