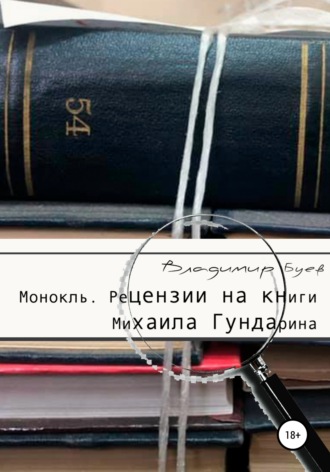
Владимир Буев
Монокль. Рецензии на книги Михаила Гундарина
«…Я обнаружил ещё одно удивительное совпадение – чем выше чином был сотрудник милиции, тем он был интеллигентнее. Когда я спросил одного полковника в Перми, как участковому сержанту пришло в голову издеваться над подростком с симптомом дауна, он ответил: “Да что же вы от него хотите? Это же быдло полудеревенское. А держим только потому, что работать -то больше некому”…»
Вместо послесловия
Диалог в мессенджере 10 мая 2021 года.
Я – Мише: Прочитал! Годится! Любо!
Миша: Осилил? Ну, и хорошо.
Я: А что такое? Почему «осилил»? Я первый, кто «осилил»? Я именно читал, а не осиливал и не пробегался глазами.
Миша: Я и говорю, хорошо.
Я: Разъясни мне. «Роза есть роза есть роза. Россия есть Россия есть Россия». Тут спрятан какой-то глубокий потаенный смысл или это тоже особенности корректуры1?
Миша: Смысл. Первое из Шекспира. Второе из Попова. Такой круг доказательств, логический Уроборосс. Как у Вознесенского матьтьмаматьтьма. Ну, и намёк на эпиграф к «Дару» Набокова.
Я: Ок. Не знал, честно говоря. Но заподозрил неладное!
Миша: Россия объясняется только Россией.
Я: Ну, да. А Китай только неКитаем.
Миша: Китай – общими азиатскими правилами, как в анекдоте: прищурились. А в Россию можно только верить.
***
Вот, собственно, и всё. Хотя нет.
И я «померцал», а потому особо подчеркиваю, что «главное действующее лицо (рассказчик) совсем даже не я. И как автор решительно отмежёвываюсь от этого озлобленно-утилитарного взгляда на книгу. Это мой персонаж распоясался, а я совершенно по-иному думаю, товарищи! Персонаж же мой – завистник и комплексушник».
…Как-то на обсуждении одной, неважно какой, но не этой книги в библиотеке Чехова писатель Владимир Гуга рассказал о двух стандартах (или клише), по которым некий рецензент пишет отзывы на разные творения (за точность цитирования не ручаюсь, но за смысл зуб даю, а заодно и голову на отсечение):
Стандарт первый. И тут хорошо, и тут хорошо, и в этом месте замечательно, и в этом тоже, но всё-таки книгу читать не советую.
Стандарт второй. И тут плохо, и тут плохо, и в этом месте скверно, а вот тут ещё хуже. Но книгу надо прочитать обязательно.
Когда я закончил читать про солнце, которое то всходит, то заходит, у меня появился третий стандарт. И тут хорошо, и там плохо, и в этом месте прекрасно, а там совсем скверно. Но книга – пальчики оближешь, читается на одном дыхании, несмотря на свои 458 страниц. Каков стиль! А как речь-то говорит – словно реченька журчит!
Я проглотил ловко и быстро.
Читать, батеньки вы мои! Непременно читать! И второе, и третье издания делать (дополнительный тираж)!
«Дабы народ видел» (с)
Невероятно умная и весёлая книга с фантасмагоричным окончанием: поток сознания сильно пожилого человека в трезвом уме и твердой памяти (попойки и запои давно ушли в прошлое).
Откуда взялась печаль?
В издательстве Пальмира, серия Пальмира.Проза, вышла книга рассказов/«треков» Михаила Гундарина «#ПесниЦоя». В сокращённом виде творение известного писателя появилось ранее в журнале «Сибирские огни» (№ 10, 2021).
«Треков»-рассказов двенадцать (в журнальном варианте было девять). Основаны они на песнях Виктора Цоя из разных альбомов и в той или иной мере с этими песнями сопряжены, хотя связь уловить порой и вовсе невозможно (она – как незримая/красная, но путеводная нить мифологической Ариадны). Тут мы просто поверим автору на слово: люминий – значит, люминий! Не путать с «Алюминиевыми огурцами», духа которых в книге даже близко не чувствуется!
Какие же песни в книге «треков»?
«Легенда» – из альбома «Группа крови».
«Генерал», «Прогулка романтика», «Троллейбус» и (понятное дело) «Камчатка» – из альбома «Начальник Камчатки».
«Бездельник» и «Солнечные дни» – из альбома «45».
«Кукушка» – из «Чёрного альбома» (песня переписана, аранжирована и включена в альбом после гибели Цоя).
«Ночь» – из альбома с таким же названием.
«Печаль», «Пачка сигарет» – из альбома «Звезда по имени солнце».
Только «Малыш» остался без альбома. Как бы «подвис». И тоже понятно, почему. А кому не понятно, тот, прочитав соответствующую главку этой рецензии на книгу Гундарина, сразу поймёт, в чём суть да дело.
Уже начинают бурлить аллюзии и ассоциации? Если нет (как, впрочем, и если да), то это «поколенческое». Автор, словно свысока или с высоты своего полёта/пьедестала, употребляет слово «поколение» и производные от него почти десяток раз – чтобы читатель запомнил раз и навсегда.
Попробуй разбери принцип, по которому принципу писатель выбирал «треки». Думается, тут так: что на душу в молодости упало, да так там навсегда и осталось, то и всплыло по прошествии времени. В общем, что с возу не упало, а потому запало и не пропало.
Каждый рассказ-«трек» состоит из трёх, в крайнем случае из четырех коротких частей. В этом вряд ли есть какой-то глубокий/потаённый смысл. Однако короткие тексты «треков», раздробленные на ещё более короткие части (если, конечно, не вдумываться в смыслы) читаются быстро, легко и непринуждённо. Сколько времени? Примерно часа полтора на всё-про всё (а журнальный вариант читается ещё быстрее), если не отвлекаться на завтрак, обед и ужин. Касательно чтения, я не шучу: легко и непринуждённо. Совсем не так, как брюки из кинофильма «Бриллиантовая рука», которые лёгким движением руки превращаются в элегантные шорты.
Михаил Гундарин явно хочет вспомнить молодость, пожить в ней. И не просто хочет, а вспоминает, пусть зачастую сознание смещается в сторону от реальности к грёзам, фантазиям и фантастике, символике, мистике и даже бреду воспалённого сознания. Порой, не стыдясь этого, автор откровенно и при всём честном народе ностальгирует. И у него получается! Не просто получается, а получается красиво. Впрочем, в текстах чувствуется не только ностальгия и молодость, но и рука мастера, и опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг. Взгляд на свою юность и на юность своего поколения из-под/из-за облаков, ну, или пусть с возрастного/не совсем уж старческого пьедестала. Не верите? А придётся…
Легенда
У кого-то «море – смеялось», а у Гундарина – «Смеялось небо, а потом прикусило язык». Именно так начинается (и снова понятно почему, даже если в самом начале забыт союз «как» – немудрено по прошествии такого количества времени) первый «трек» «Легенда» его книги. Густой замес реальности, образов и фантасмагории.
Внешне сюжет вроде прост: сумасшедший/якобы сумасшедший старик-отец отвергает всё, что предлагает-дарит ему взрослый состоявшийся сын (это не сам Гундарин, а его лирический герой в виде личного местоимения «я») и постоянно достаёт/тиранит отпрыска своими бессмысленными капризами. Пишу «лирический герой» и думаю: если его, конечно, можно так назвать. Примем как аксиому: можно (!), хотя между лирическим героем и автором так и тянет поставить знак равенства!
Если всё понятно, то вроде бы к чему ещё писать какие-то рецензии/отзывы/отклики? Дал ссылку или гиперссылку на первоисточник – и прикусил язык/успокоился и сиди себе дальше молча. Как говорится, с плеч домой, коль подписано (некто в позапрошлом веке знал толк в этом деле).
Ан нет! Рефлексировать хочется! Ведь тут оба в одном флаконе: и Цой, и Гундарин. Не абы кто. Пока двое в одной лодке, не считая…
Кстати, та же самая «Легенда» (не Цоя, а Гундарина) – чем не «Отцы и дети» Тургенева? Вот уже и не двое. Теперь считая..!
«Говорю не всерьёз. Хотя, может, и всерьёз» – это уже из уст гундаринского лирического героя. Впрочем, снова вполне допускаю, что лирический герой автора – местами и есть сам автор, хоть в личных дружеских беседах за чашкой чая он это всячески отрицает. Впрочем, как известно, «все мы немного лошади», и я в том числе.
…Лично мне из времён моей далёкой и незабвенной юности из цоевской «Легенды» запомнилось это (и каждому своё, и у каждого своё):
– «Среди связок в горле комом теснится крик»
– «шатаясь, бойцы об траву вытирали мечи» (тут тоже без оного союза)
– «и горел погребальным костром закат, и волками смотрели звёзды из облаков»
А из гундаринской запомнится это: «сумасшествие как тёмная вода смерти» и как «универсальное горючее».
Строчка из песни «Легенда» «смерть стоит того, чтобы жить» является одной из известнейших цитат Виктора Цоя. Эти слова также высечены на памятнике музыканту, установленном на месте его гибели в Латвии. Однако в связи с недавними нападками отечественных правоохранителей на рэперов Моргенштерна и Оксимирона в нынешние времена эта фраза запросто может быть интерпретирована как призывы/склонение молодёжи к суициду. А потому в контексте этой рецензии заявляю открыто и «весомо, грубо, зримо»: в данном тексте никаких склонений/спряжений нет ни прямо, ни косвенно/подтекстом. Печать, подпись – удостоверено.
Повторюсь: и всего-то суть рассказа Гундарина в том, что старый отец («филиал ада» для лирического «я» самого автора) мешает сыну спокойно жить. Но отнюдь не тем, что зажился на этом свете. Ценности различны.
«Поколенческое».
В общем, куда деваться – «Отцы и дети».
…Итак, подведём итог литературно-художественным корням автора книги в этом рассказе-«треке»: Гундарин, Цой, Тургенев.
Можно скромнее: Тургенев, Цой, Гундарин. Или: Цой, Тургенев, Гундарин.
Генерал
Сюжет «трека» «Генерал» тоже не сложен. Лирический герой (кстати, не все повествования ведутся от имени «я», но тут, как и в первом рассказе – оно самое, тоже «я») встретился с нелирической героиней в раю (вернее, в «Раю», ибо это название ресторанчика-«подвальчика в центре с дорогими напитками»). Думаете, дальше изо всех щелей и пор не будет просвечивать, сквозить и строить рожицы Данте Алигьери со своей «Божественной комедией» и девятью кругами ада? Зря думаете, что не будет! Ещё как будет! Потому именно так и случилось: просвечивает, сквозит и строит.
Итак, встретились два одиночества в «Раю», который на самом деле – ад/«Ад» (даже если официально так не называется): «Сабрина была худа, блондиниста, коротко стрижена. Хотела стать звездой. Как же. У нас с ней, кстати, ничего не было». Было меж ними что-либо или не было – бог весть или бес им в ребро. Или лучше так: бог им судья. Вполне возможно, что тут даже лирический герой лукавит/привирает, чтобы сохранить честь мундира… вернее, оставить незапятнанной честь дамы вместе с её белым (пусть и не свадебным) платьем. Однако не будем копаться в подробностях личной жизни «лирического» и «лирической».
Впрочем, что касается дамы, тут точно «нелирической», ибо как может быть лирической героиней гадалка, изображающая из себя прорицательницу/провидицу/пифию, но по сути являющаяся банальной мошенницей? В конце концов (для тех, кто считывает двойные-тройные гундаринские подтексты) Сабрина оказалась не просто гадалкой (которая звучит гордо) и/или даже просто мошенницей, а мелким дилером. Или коммивояжёром, агентом (возможно, ино-), лавочником (-цей), розничным продавцом, торговкой «воздухом», «пятой колонной» – называйте, как вам больше понравится/заблагорассудится, милостивые государи! Мелкой бесовкой в конце концов (тут пока даже не намекаю, а дальше будет видно)! Суть дамы – мелочёвка, подлая душонка.
А вот лирический герой («я») – генерал, пусть и отставной. Есть разница в масштабе личностей и в их статусах? То-то же! Ответ однозначный. Однако спёкся генерал, размяк, расслабился, выдал себя, расшифровал, раскодировал, выпустил наружу и распушил хвост. В конце трека именно так: «…Выпустил для начала свой прекрасный, украшенный изумрудными шипами хвост. Метафора? Не сказал бы…» Генерал оказался мелковат, значит, как и царь в известном фильме, тоже не настоящий.
Ключ к интерпретации и разгадке? Есть ключ! Он же – Цой (песни-то – его, не кого-то другого!):
«Нам не хватает тем,
Не нарушай покой,
Эта ночь слишком темна…
…Хочется спать, но вот стоит чай
И горит свет ста свечей
Может быть, завтра с утра будет солнце
И тот ключ в связке ключей?..»
Итак, в этом треке: Гундарин и Цой. С предтечами негусто – лишь Данте Алигьери.
Можно скромнее: Данте, Цой, Гундарин. Или: Цой, Данте, Гундарин. Всё равно плеяда из одного ряда. Или шайка-лейка на одной ровной линейке по стойке смирно.
…И небольшая ремарка с картинкой в конце для полного понимания сути рассказа. Кто смотрел и помнит советский детский кинофильм-сказку «Королевство кривых зеркал»?
Ключ!
Ключ!!! Хоть от рая, хоть от ада, но ключ один и тот же (даже если в двойном экземпляре). Ключ к разгадке. Как говорится, хоть горшком назови, только в печь не сажай.
Бездельник
Песня Цоя «Бездельник» автобиографична. Бытуют две версии, чем занимался певец и музыкант Цой в период её написания. Причём, поскольку каждый из мемуаристов смотрит со своей колокольни, то, скорее всего, обе версии-правды тянут на одну истину. Все ведь помнят гуляющую по интернету картинку, в центре которой представлена объёмная «истина» в виде цилиндра, а на двух проекциях (в виде теней на противоположных плоскостях) – «это правда» (четырёхугольник) и «это правда» (овал или круг)? Свет на цилиндр падает с разных сторон. Дескать, истина одна, а правд может быть множество – в зависимости от того, с какого угла/ракурса взглянуть.
Друзья Виктора Цоя вспоминали, что, поскольку в 1981 году он был отчислен из Серовского училища, «тусовка жила именно так, как об этом спето». Другая версия: «как вспоминал его отец, большую часть времени [Цой] лежал на диване». В принципе между версиями нет противоречий, ибо юность мобильна: можно и с друзьями успеть потусоваться (например, вечерком с пивасиком-рыбкой или водочкой-огурчиком), и дома на диване полежать (весь день с утра до… бесконечности, вернее, до момента встречи с тусовкой).
А вот чтобы сделать свой третий «трек» менее автобиографичным, Михаил Гундарин отказывается от лирического «я» и называет героя «весомо, грубо зримо» Тихоглазовым (подозреваю для того, чтобы прорвать громаду лет и явиться в грядущее так, «как в наши дни вошёл водопровод, сработанный ещё рабами Рима»).
Чуешь Маяковского, дорогой мой интеллектуальный читатель? Да-да, герой неспроста назван Тихоглазовым без имени-отчества, «классическим бездельником», быть которым даже лирическое «я» автора испытало физическое и духовное отвращение, а потому не пожалело. Глаз-то типа не зоркий, а… тихий: «Конец семидесятых уже показывал нам грядущие признаки демократического разложения, смотрите, мол, в оба – да кто бы разглядел». Товарищ, гляди в оба! Он же! Как пить дать он! Маяковский, курилка! Как и обещал, дошёл до нас через тексты Гундарина, «через хребты веков и через головы поэтов и правительств».
И кстати (тут уже моё персональное лирическое отступление): кто из нас, сочиняя что-либо на досуге или без досуга, да и просто ничего не сочиняя, не любил (в детстве и юности) поваляться на диване. Кто из нас ещё и сегодня не любит делать это же самое или нечто подобное (то бишь ничего не делать и даже ничего не сочинять)! Мало ли нынче так называемых диванных поэтов, писателей и (особенно!) аналитиков/аналитегов…
Сюжет «трека» прост: некий бездельник сдаёт внаём две из трёх комнат своей квартиры: первую – куче тувинцев (которые периодически, волнами, сменяют на постое один другого), вторую – старику-мистику Кривошееву, который «в своё время был самым первым в городе астрологом, долго вёл персональную рубрику в местной газете, имел частную практику. Затем астрология потеряла актуальность, да и сам Кривошеев отказался от неё ради более интересных и глубоких опытов».
Так вот, этот всемогущий Кривошеев с помощью манипуляций и своего чудодейственного напитка может запросто устроить любому встречу «с Вечным, с Абсолютом, с Цоем». То есть если в первых двух рассказах-«треках» имя Цой у Гундарина сквозит как бы незримо, подтекстом, намёками-экивоками, исподволь, то в третьем впервые упоминается в открытую и снова «весомо, грубо, зримо». И далее обыгрывается в рассказе в течение всего повествования.
В этом «треке» у Гундарина впервые (не вообще в творчестве, а в конкретной книге) крупным планом проступает тема «лишнего человека». И у Цоя она, кстати, тоже вполне выпукла. Вот к примеру:
«…Гуляю,
Я один гуляю.
Что дальше делать, я не знаю,
Нет дома,
Никого нет дома,
Я лишний, словно куча лома, yуy…
…Я снова человек без цели…»
Как видим, гундаринский Тихоглазов – ровно такой же лишний человек из серии/плеяды: Онегин-Печорин-Бельтов-Рудин-Лаврецкий-Чилкатурин-Безухов-Обломов-[…тут большой перерыв по времени и по героям…]-Никандр-Тихоглазов! Спросите, кто такой Никандр? Он тоже персонаж гундаринский – из более раннего творения «Анна Карнегина» (кстати, и о ней отдельную рецензию можно написать, если какое издание заинтересуется, а без интереса мне писать в лом).
Так что, повторюсь, в одном рассказе-«треке» – аллюзия с целой толпой «лишних» людей. Так сказать, предшественников Тихоглазова из XIX века. На создателей образов этих «лишних» автор книги «#ПесниЦоя» может опереться как на истоки и не просто может, а смело опирается: на Пушкина, Лермонтова, Герцена, снова на Тургенева, на Гончарова и даже на самого Льва Толстого (как зеркало русской революции).
Кстати, в поздний период на концертах Цоя песня «Бездельник» уже не исполнялась: поэт, певец и музыкант перестал быть/чувствовать себя лишним, нашёл себя в этом мире и своё место под солнцем.
…Ещё одна прямая аллюзия. Думаете обошлось без Гоголя? А вот и нет! Ни разу не обошлось!
Тихоглазов не просто бездельник, он – пустой мечтатель, впрочем, безобидный малый (в отличие от его постояльца старика Кривошеева). Опять же: можно сказать, пустой мечтатель, а можно – Ганс Христиан Андерсен! В смысле: сказочник. Кому что ближе. Многозначность/поливариантность.
Вот тут, к примеру, что? Поцитируем чуток. Полюбил Тихоглазов «две вещи: лежать в своей, самой маленькой, комнате на узкой, подростковой ещё кровати (на века делали) и мечтать о пустяках…». Мечты, мечты, где ваша сладость (тут мимоходом снова не обошлось без Пушкина): «Хорошо было бы также попасть на машину времени [чем тут не Герберт Уэллс? – В.Б.] и оказаться в прошлом. Накупить золота. Или акций Газпрома. Или махнуть в Питер, на улицу Рубинштейна, пообщаться с Виктором Цоем (его Тихоглазов как-то особенно выделял из всей этой рок-братии)». И чем тут к тому же не Гоголь во всей своей красе. Вспомним-ка этот тест: «Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян»! Гоголь-моголь! Как пить дать, Гоголь!
Но у гоголевского Манилова все мечты остались несбыточными (потому и маниловщина). А в «треке»-рассказе Гундарина мечты главного героя – бац! – и сбываются, как в Газпроме (у его топ-менеджеров), ибо «освободившийся дух [Тихоглазова] немедленно слился с сонмом себе подобных и понёсся вокруг Земли… его дух соседствовал и содружествовал с тихоглазовским – собственно, им и был». То есть под «кайфом» (неважно каким – хоть так!) главный герой реализовал все свои детские мечтания (вот где их сладость!). Так всегда бывает у доверчивых бездельников: мистик-старик Кривошеев из деревянного кубка под хохлому опоил Тихоглазова зеленоватой бурдой (у Цоя: «мозг переполнен сумбуром и бредом»).
Тихоглазов так самим собой и остался – всю оставшуюся жизнь бездельничать и даже с постели больше не подниматься (у Цоя: «Все говорят, что надо кем-то становиться, а я хотел бы остаться собой»), ведь Кривошеев «намеревался уложить его на кровать, поить, кормить по минимуму», правда, при этом уже на правах хозяина пользоваться тихоглазовской жилплощадью. Деятельный мистик-старик сработал, что называется, по всем фронтам, на опережение, ибо «кроме того, он кое-что кое-кому обещал – по мелочи: кончик левого уха и ноготь с мизинца Тихоглазова».
Не правда ли, каждый получил то, о чём мечтал?!
…Чувствуешь новую тему, уважаемый читатель? Тема жилплощади. Квартирный вопрос многих испортил (а в остальном все люди как люди). С одной стороны – Михаил Булгаков, тема литературная (тёзка Гундарина опять же: совпадение? не думаю!) С другой – жизнь как она есть, сугубый реализм во всей его глубине: именно таким образом чёрные риелторы убивают собственников жилья, чтобы отнять у них квартиры, «помочь» кому-то решить жилищный вопрос (и самому в любом случае обогатиться: хоть квартиркой, хоть денежкой). Или тема: «Отцы и дети», «Деды/отцы и их наследники» – юное поколение отправляет в небытие отцов/стариков, чтобы самому пожить на освободившихся квадратных метрах. У Гундарина почему-то наоборот: старик отправил в мир иной – парадокс, при этом туда не отправляя! – молодого бездельника: духовная, а не физическая смерть; у Цоя: «отправлюсь спать, чтоб завтра встать, и всё сначала».
Назидание потомкам: дети, юноши и люди, не занимайтесь ерундой и не валяйтесь без дела на диване! По крайней мере, валяясь, надо что-то сочинять, творить, выдумывать, пробовать, как это делал мистик-старик Кривошеев и как призывал в поэме «Хорошо!» Маяковский. Только тогда у вас тоже всё будет хорошо.
…Живчиком был дедок, а мы подведём итог третьему «треку»: Гундарин, Цой, Булгаков, Герцен, Гоголь, Гончаров, Лермонтов, Маяковский, Пушкин, Толстой, Тургенев, Уэллс.
Можно скромнее: Булгаков, Герцен, Гоголь, Гончаров, Гундарин, Лермонтов, Маяковский, Пушкин, Толстой, Тургенев, Уэллс, Цой (тут впервые ряд столь длинен, и все творцы-предшественники поставлены по алфавиту; жаль, что Цой оказался в конце). Плеяда намного круче, чем в двух предыдущих треках, не правда ли?
P.s. Моя рецензия (или «рецензия») на третий «трек» по количеству «букафф» получилась чуть ли не такой же, как гундаринский оригинал. Некоторые последующие главки-рецензии не отстанут и будут столь же объёмными (надеюсь, что и ёмкими по смыслу).







