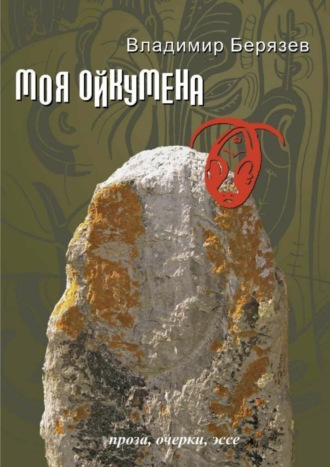
Владимир Берязев
Моя ойкумена. Проза, очерки, эссе
* * *
Анатолий и Вадим – послушники, прожившие в монастыре уже более двух лет.
Анатолий, с неизменным румянцем, крепкий, сильный, мастеровой, всё время улыбается и всё время сетует, что по грехам его ещё лет десять не сможет принять постриг, а то и до самой смерти, ведь ему уже к пятидесяти.
Вадим, двадцатипятилетний юноша, ещё три года назад учившийся в Новосибирском университете, высокий, белолиций, застенчивый, но очень тонко и точно мыслящий. Его чистота душевная не вызывала и доли сомнений в скорейшем иноческом его продвижении.
Два таких разных, они крепко сдружились и о чём бы ни говорили, неизменно разговор возвращался к делам отца Иоанна, к его трудам по строительству монастырскому, к его суровой требовательности, к его предсказаниям и правдивым поступкам.
От них я узнал, что отцу Иоанну трижды было видение Матери Божьей. О том, кто тому был свидетелем и кто им об этом поведал, я расспрашивать не стал. Но, по словам будущих иноков, Царица Небесная сама указала отцу Иоанну место, где следует основать монастырь, потому как на месте этом почивает благодать Божия и в годы тьмы и безумия оно станет оплотом спасения душ православных.
Ещё я узнал, что в Сибири будет два монастыря весьма славных своими духовными подвигами – Могочинский и Черепановский (последнего пока нет даже в замыслах). В других местах сибирской земли монастырям не существовать, для жизни духа, для иноческого делания уготованы только эти две обители.
Ещё я узнал, что ничего хорошего нашу страну в ближайшем будущем не ожидает. Ещё я узнал о грядущих катастрофах в мировых столицах и великих катаклизмах на земле и в небесах… Но стоп!
Столь много природной красоты было вокруг, так тихо и благодатно текла река посреди девственного леса, что, ей-богу, не стоит пересказывать мрачные пророчества, тем более, что они каждый день перестают быть пророчествами, оборачиваясь действительностью. Цивилизация вот-вот сорвётся с катушек. Сводки новостей кошмарней любого «жутика».
Но Могочино все эти бури не затронут.
Могочино – всё переможет.
* * *
Странно.
Кто бы ещё десяток лет назад мог помыслить о такой духовной крепости в глухом, невежественном, бандитском, браконьерском углу Сибири.
Речники, лесозаготовители, геологи, зэки и совсем немного крестьянствующего народа. В Могочино ни церкви, ни священников сроду не было.
Думаю, семя Слова Божия здесь посеять куда труднее, чем пятьсот лет назад было сделать это на Белоозере, среди Чуди и Мери языческой.
* * *
– Мы разлили по последней рюмке перед отплытием домой.
Все вещи уже сгрузили в лодку.
Осталось только чокнуться и проститься с Чулымом, с Колобергой, с этой песчаной косой, с таёжными дебрями безымянного острова, с великим пустынным одиночеством на берегу великой пустынной реки.
Выпить нам не дал свистящий, шипящий звук внезапно вскипевшей, вспенившейся воды: «У-п-п-ф-ф-у-х-х-ш-ш!!»
Как в аквацирке, из реки, демонстрируя свою красоту и мощь, взмыл в воздух саблехвостый, закованный в панцирь осётр.
Взмыл и ухнул, словно гаубичный снаряд.
Берёзовый кол с привязанным к нему капроновым шнуром закидушки загудел, заныл от напряжения.
Последнюю снасть мы хотели снять перед отплытием, когда осталось бы лишь завести мотор. Но река тоже решила попрощаться.
– Попался! Ишь как от боли взмыл! Только бы вытащить…
Осётр оказался килограмм на сорок. Вытащить сумели уже на закате, и потом, пытаясь отдышаться, долго и удивлённо смотрели, как тот вьётся на песке, лишённый привычной опоры и свободы.
Вырыли в песке яму глубже чем по колено, бросили в неё добычу и быстро закидали песком да ещё с горкой. До утра. Но только сделали несколько шагов к лодке, чтобы вновь раскинуть палатку и сготовить ужин, как за спиной услышали шлёпающие звуки: осётр прыгал в сторону родной стихии.
Пришлось захоронить его на глубину метр с гаком, и то утром из песка торчал конец хвоста…
Это рассказ моего товарища о последнем посещении пустынных мест в устье Чулыма в первой половине 80-х годов. С тех пор окрестности Могочино стали лишь ещё суровей и безлюдней. Человек уходит из тайги, река пустеет, так как нечего и некого по ней возить, и лишь мощь царь-рыбы растёт, лишь материнский дух природы становится всё более враждебен и нетерпим по отношению к человеку.
Тайга прощает и признает за родню только чистую душу.
Может быть, появление монастыря здесь – это знак нового века, это преддверие иного духовного опыта, который заключается в мирном сожитии человека и Природы?
Неужели и здесь когда-нибудь, как в своё время на Соловках и на Валааме, будет всё цвести и благоухать, будет сад с чудесными аллеями из лип, кипарисов и виноградной лозы?
Неужели надежда на благополучный исход не умерла окончательно и весы в руках Всевышнего ещё колеблются?
* * *
Вместе с могочинским старожилом Василием Дворцовым мы убедили моего спутника Сергея креститься. Сергей дважды пытался отказаться, но наконец согласился с тем, что, кроме надежды на спасение, ничем более страшным ему этот обряд не грозит.
Сергей – по-настоящему талантливый человек, не просто душа, а большая душа, которая, с моей точки зрения, весит немало и на небесных, и на демонических весах.
Новокрещаемый встал перед священником Серафимом, и, когда обряд дошёл до своей кульминации, я испытал такое сильное чувство ужаса и одновременно радости, какого не испытывал со времён детских страхов и юношеских восторгов.
Обочь колонны стоял дощатый стол, накрытый клеенкой. На столе – керамический кувшин с водой, три пиалы из нержавейки и две общепитовские фаянсовые тарелки. К столу прислонён деревянный щит.
Священник мерно читает по книге молитвы согласно чину, Сергей стоит босой в самом центре храма на домотканном половичке, понурый, сосредоточенный, в пальцах свеча, в линзах очков отсветы лампад, рядом служка – высоким-высоким голосом вытягивает «Аллилуйя» и «Господи помилуй!».
И вот, когда священник стал обличать все пороки Сатаны, когда он уже набирал в лёгкие воздух, чтобы трижды дунуть и трижды плюнуть на самое гордое, самое независимое и самое мстительное существо во Вселенной, когда момент презрения и попрания гордыни почти свершился, и Сергей уже через минуту должен был на вопрошание отца Серафима трижды провозгласить: «Отрицаюсь! Отрицаюсь! Отрицаюсь!», тем самым навеки отрекаясь от Дьявола, – в тот самый момент деревянный щит, прислонённый к столу, закачался, стронулся с места, стол накренился и опрокинулся, кувшин со звоном покатился по полу, вода расплескалась почти к ногам священника, звон железных пиал добавился к общему грохоту, а тарелки просто разлетелись вдребезги. За колонной пронзительно, на высокой-высокой ноте, близкой к ультразвуку, закричал бесноватый…
Волосы у меня натурально зашевелились и встали дыбом. Но на отца Серафима это решительно никакого впечатления не произвело, он лишь на несколько мгновений задержал чтение, глянув на то, как служки вытирают пол и собирают осколки. Василий уже на крыльце, видя моё смятение, пошутил: «Экий раздражительный бес за Сергеем приглядывал: лишили души, так разгневался, стол пнул на прощание, посуду побил. Не нравится…».
А отрок Вадим добавил, что в храме всё время что-нибудь такое происходит, монастырь – место прифронтовое: «Мы привыкли».
* * *
Я вспомнил город и всё, что с ним связано, и эхом подумал: «И мы привыкли…».
Новосибирск, 1995—1996 гг.

Бараба
…знаменки, покровки, вознесенки, троицки, александровки, николаевки, воздвиженки, ильинки… И в каждой из них когда-то стояла церковь, давшая название деревне. Однако только в одной мы увидели остатки кованной ограды на кирпичном фундаменте – сам храм сгорел в начале 80-х годов, немного не дотянув до перестройки. В Троицке, где большинство населения некрещеное, спрашиваем, когда в последний раз в деревне бывал священник. «Ой, батюшка, так, наверное, перед войной последний раз мы его видели, а потом на церкву запрет вышел».
Пятьдесят лет без утешения. Ни окрестить, ни обвенчать, ни отпеть и упокоить по-человечески, ни помолиться об усопших своих сродственниках и близких…
* * *
Газет нет. Книг нет. Клубы в запустении. Работа, семья, водка, телевизор вместо иконы и какая-то призрачная надежда. Прорастет ли из этой надежды прежняя вера? Или ветер одичания вековечно будет трепать на месте деревень и храмов метелки крапивы и конопли…
* * *
В Барабинске еще не старая женщина со скорбным исстрадавшимся лицом, сложив ладони лодочкой, нерешительно приближается ко Владыке Тихону за благословением. Она ждет помощи и духовной опоры, но попросту не знает, как поклониться, как приложиться к руке епископа, как принять в себя ту частицу Благого Слова, сокровище которого бережет в своих недрах Православие. Глаза растерянные, во всем облике мука, она как бы что-то напряженно вспоминает, но так и не может вспомнить. Епископ все видит – и крестит, и благословляет, не обращая внимания на неточности обряда…
* * *
Еще одна картина.
Возле памятника павшим в одной из деревень Барабинской степи священник служит литию по погибшим, обряд короткой панихиды, где может быть слово проповеди, где песнь о будущем воскресении, молитва об упокоении и торжественный троекратный канон «Вечная память», от которого содрогается, возвышается и скорбит душа.
Не минута молчания, лишенная смысла и слова, а совместная песнь.
Священник служит литию.
Он говорит, что человек, лишенный любви, мертв и не имеет надежды на воскресение.
Он говорит, что наши павшие обладали истинной любовью, что они, даже насильно лишенные веры деяниями власти, тем не менее спасены, прощены в своих грехах и обрели вечное упокоение, что они живы, они рядом с нами и ждут от нас поминовения, так как в этом поминовении, в этой молитве есть великая радость и залог того, что и о нас по смерти воспомнят и помолятся.
Наши павшие обладали истинной любовью, повторяет священник, ибо любовь это не чувство, не какой-то набор ощущений, а способность к самопожертвованию ради других, ради высокой цели, это бескорыстное и искреннее деяние.
Тот, кто отдал жизнь за нас с вами, кто не щадил души и тела, – спасен, и ему прощены все грехи (даже грех безбожия и грех нераскаянности).
Вечная память!
Вечная память!
Вечная память!
Звучит над Барабой, и я вижу, как лица односельчан, собравшихся у памятника с бронзовыми списками погибших, разглаживаются, светлеют, я вижу – губы некоторых из них беззвучно шевелятся, как бы стараясь что-то произнести, как бы сами собой пытаются подпеть, но тщетно, пока тщетно, лишь две или три старушки решились вслед за священником наложить на себя крестное знамение.
Но… все-таки…
Вот именно, именно так.
Вокруг меня – братья и сестры.
* * *
У меня перед глазами стоит образ священника, одного из девяти, проехавших поездом «Памяти» через всю Степь.
Он застыл в полном одиночестве у ограды сельского кладбища. На все четыре стороны от него – пустынное поле, наполненное дыханием холодного ветра.
Село едва видно за порожней талой рощицей.
На кладбищенских березах лопаются почки, оградки подправлены, кресты и звезды подкрашены, завтра Родительский день. Но завтра священника здесь не будет, как не было уже пятьдесят с лишним лет.
Поэтому он стоит один посреди степи, стоит у могил отцов, дедов и прадедов и читает молитвы, поет тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».
Он молится, потому что это необходимо.
Потому что так было и так должно быть всегда, во веки веков.
* * *
Сколько земли по обе стороны Великой Магистрали.
И везде, через каждые двадцать-тридцать верст живут люди – часто уже не молодые, оставленные, иногда забытые даже детьми, покинутые на произвол судьбы правителями, но вовсе не собирающиеся помирать, не озлобившиеся, не изверившиеся.
Бараба. Земля отцов
Изъезженная, исхоженная, удобренная телами и пеплом, таящая в себе следы и кости былых эпох, укрывшая чертополохом и самой жгучей на свете крапивой обрушенные сгнившие срубы сотен исчезнувших деревень.
Болотистая, солончаковая, озерно-камышовая, березово-ковыльная, золотопшеничная, золоторунная, золотоствольная, дивная-дивная Степь, где синь пронзительна и высока, где с неприметной гривы видно сразу несколько озер, как на Среднерусской равнине с холма было видно купола сразу двух-трех церквей, где царствует только ветер, поскольку некому и нечему его здесь остановить, где облака обкладывают горизонт, словно темное воинство, и мчатся по периметру пространства, гонимые волей Хана-ветра, а свист его, неумолкающий свист в камышах, так же бесконечен, как бесконечны дороги Барабы – гравийные высокие трассы с черной водой в канавах по обе стороны, а гравий скрипит и перестукивает под колесами, как длинные-длинные четки в пальцах неведомого монаха, а земля плоская, словно золотистый блин с черными подпалинами, такая плоская, что сквозь рев машины и мерное подрагивание жесткого сидения тебе начинает чудиться, что ты находишься на самом краю гигантской долгоиграющей пластинки и она медленно-медленно вращается под тобой, меняя очертания облаков и расположение березовых околков на самом краю видимого мира.
Хоть закричись.
Хоть во всю глотку запой.
Хоть стреляй в зенит.
Ни отклика, ни эха – ничего.
Звук исчезает, поглощается, тонет в омуте неба, только вороны с грохотом сорвутся с края ближайшей рощи, застрекочет сорока да чуть изменит курс клин гусей высоко над головой.
Бараба!
Гулкое округлое имя, имя, неотъемлемое от самой земли.
Закольцуйте его, замкните, впишите в круг и получите модель бесконечности, своеобразную ленту Мебиуса, четки, которые можно перебирать и перебирать, размышляя о том – что же такое наша Отчизна, земля отцов, Бараба…
* * *
Две с половиной тысячи озер насчитали географы на плоскости этого эпического пространства. Блюдо диаметром в семьсот верст, а посреди его, в самом центре – Чаны – Чан, материнское озеро, начало всех озер и болот, водное лоно, на вкус солоноватое, словно кровь, и даже очертаниями своими напоминающее фантастических размеров амебу с растекающимися языками протоплазмы.
Местные жители, видимо интуитивно воспринимая Чаны как протосущество, называют эти языки-ложноножки «отногами». Отноги занимают больше половины из четырех тысяч квадратных верст водного зеркала Чанов, они полны рыбой, птицей, это камышовый лабиринт, готовый проглотить любого непосвященного, запутать, затянуть, убаюкать своим шорохом, обернуться то сухим островком, то мелководьем, то трясиной.
Отноги живут своей жизнью, своими циклами, они дышат, то усыхают десятилетиями, то растекаются, заползая все дальше в глубь Степи. Еще три века назад Чаны были в три раза больше, тогда это озеро по-видимому и впрямь было самым обширным в мире, но и сегодня на планете едва ли найдутся еще три-четыре подобных ему.
На берегу Чанов можно себе живо представить, какой была земля после отступления Ледника. Континентальное половодье, извилистые полосы суши, то и дело переходящие в болотца, то большие, то малые протоки, плоское пространство, на котором преобладают водные зеркала, острова и полуострова, а надо всей равниной, полной безмолвия и ветра, – темнобокие башни облаков.
В этот раз мы остановились на гриве, на оконечности мыса. Место открытое, чуть возвышенное, озерный ветерок сдувает с него злобные эскадрильи паутов, комарье днем почти не докучает, слышно, как чавкает в камышах сазан, как где-то вдали ушла за остров моторка, и снова тишина, состоящая из дыхания горячей земли, биения кукушки, большого неба с ослепительными столбами туч и легкой шепелявости волн где-то под боком.
Пахнёт прохладой, наклонится камыш, и снова зной, и снова лежишь на спине с удивительным ощущением полёта. Хорошо запрокинуть руки, замкнуть их перед собой прямоугольником и, словно в раме, бесконечно наблюдать меняющиеся небесные пейзажи.
Ощущение подлинности.
Между тобой и миром нет ни художника, ни фотографа, ни тем более телевизионного ретранслятора, реальность, а не виртуальность бытия позволяет воспринять масштабы ЦЕЛОГО. Душа плавает в колыбели первообраза, лишенная страха и сомнения, ей некуда спешить и не о чем беспокоится, в этом состоянии не существует времени…
Я думаю, таковым и было сознание палеолитического человека, кто не ведает о том, что есть время, не может испытывать страх и тревогу, это сознание прежде всего созерцательное, не ограниченное рамками числа, это возможность наблюдать явление не час и не день, а как бы непрерывно, поскольку и жизнь твоя не ограничена какими-то сроками, она перетекает из поколения в поколение, душа Предка присутствует в тебе непосредственно как бы продлевая взгляд до горизонта земного разлива и небесного круговращения, и уже не важно – в сотый или в тысячный раз появился на свет младенец, носитель этого взгляда, приходит и уходит Ледник, леса сменяются тундровой степью, мамонты и носороги откочевывают вслед луговому цветению талой земли, изменяется расположение главных созвездий над твоею головой, а ты лишь восхищенно следишь, как один круг бытия, замыкаясь, порождает другой, как природа, разворачивая ландшафт за ландшафтом, убаюкивает катастрофические спазмы космоса, как через каждые шестьдесят поколений на смену старых забытых бед приходят новые, казалось бы, неведомые, но, на самом деле, еще более забытые, дремавшие в недрах Золотой змеи Вселенной… и только Полярная звезда, Золотой Кол, вбитый Творцом в сияющую бездну небосклона, остаётся вечен и незыблем, словно символ абсолютной истины, неделимой единицы – НАЧАЛА.
Ты – пробивший покров сотворенья —
Турий рог,
Знак рождения, мера вращенья,
Ось миров.
Ты возник на холме небосвода,
В той дали,
Где лишь хаоса сонные воды
Быть могли…
* * *
Тишина даётся человеку для обретения силы.
Тишина – есть всегда пауза.
За паузой следует испытание, взрыв, катастрофа.
Один всемирно известный литератор, бывший в юности прекрасным русским поэтом, говорил в своей Нобелевской речи о том, что писание стихов является гигантским ускорителем сознания. Мысль удивительная по своей глубине и точности. После паузы, тишины, после периода внутреннего постижения – стихотворение есть результат, сброс, некий иероглиф, который поэт молниеносно начертал на рисовой бумаге, после того как долго-долго стоял у окна, обмакнув кисточку в тушь. Этот акт катастрофичен и по сути своей – разрушителен для автора как некоего организма, инструмента, проводника творческого разряда, но если бы кто-нибудь мог сравнить сознание и душу автора до и после События, то подивился бы тому, какой преображающей энергией обладает стрела Аполлона, как просветлел, прояснел и напитался любовью небосклон дремавшего сознания.
Я думаю, что этими же свойствами обладают и природные катаклизмы.
* * *
В камыше почти прекратилось движение, зной и духота усилились, только высоко в небе на Чанами происходили какие-то неведомые процессы, сотни оттенков белого и голубого, хороводы титаноподобных мифологических существ, текучие метаморфозы барочных мраморно сияющих храмов, неожиданные завихрения, похожие на вымах ангельского крыла, жизнь немая и выразительная, но тревожная по сути.
Вода остановилась.
После обеда, когда солнце стало клониться к западной стороне озера, в полуденных далях у самого горизонта вырос гигантский ослепительный столб, он клубился и рос, с каждой четвертью часа поднимаясь всё выше и наливаясь слепящим светом ледниковых пиков, он выделялся даже на фоне разнообразия облачной панорамы – явление притягивало внимание и потрясало своей грандиозностью. Ничего подобного прежде наблюдать не доводилось.
Это не было смерчем.
Это не было обыкновенной облачной массой.
Это было как бы актом оплодотворения воздушной стихии, на глазах зарождалось новое существо природы, мы наблюдали, как сходятся силы в центре грядущей катастрофы. Но мы и не подозревали – что произойдёт уже через некоторое время. Завороженные, мы следили за манипуляциями невидимого Демиурга, который разворачивал полотно за полотном, пантомиму за пантомимой на необозримой сцене озерного мира.
Жест за жестом, образ за образом. Это было красиво…
Увы, о том, что нам предстоит пережить, мы узнали скоро, не прошло и полутора часов
* * *
Сначала вдруг исчезло солнце. Вся южная сторона неба вдоль горизонта принялась темнеть, наливаясь свирепым фиолетом, над образовавшимся тёмным фронтом как бы сами собой возникали новые дымчато-белёсые тучи и тут же поглощались валом наступающей стихии.
Стало совсем тихо.
Картина разворачивалась словно в немом кино.
Тьма накатывала с размахом, далеко охватив и восток и запад, так, словно вырвалась из причудливых миров Толкиена, так, словно по воле грозного кайчи, ожили силы алтайского эпоса Маадай Кара…
Стена двигалась.
Авангарды туч достигли дальних островов.
И вот поперёк фронта опрокинулось первое древо белой молнии.
Мой товарищ побежал в машину за видеокамерой:
– Это надо снимать, это фантастика!
Пока устанавливал штатив и настраивал аппарат, ветвистые трещины стали вспыхивать вдоль всей грозовой крепости, а он, чуть суетясь, всё бормотал, всё приговаривал:
– Чёрт возьми, какая силища! Откуда что взялось? Как бы это снять получше… Только бы аккумулятора хватило…
На панели камеры зажегся алый огонёк записи, объектив ухватил новый разряд и мы как азартные зрители возликовали.
Весь наш бивак в количестве трёх человек сгрудился за спиной оператора, подсказывая наперебой – куда крутить, где долбануло, где вот-вот долбанёт, и, чаще всего с запозданием крича: «Мотор! Давай! Жми! А-а, валенок, опять опоздал!..
Пока мы резвились, придя в весёлое возбуждение, грозовое пришествие обнаружило свой нешуточный голос. Гром, словно увесистое чугунное ядро, плюхался где-то в отдалении, но по басовитости и некой внутренней литосферной вибрации внятно ощущалось, что на нас катит по меньшей мере палеолитическое стадо мамонтов неисчислимого поголовья и, судя по всему, пожар их гонит самый что ни на есть всепожирающий.





