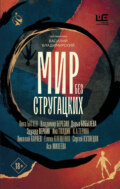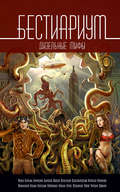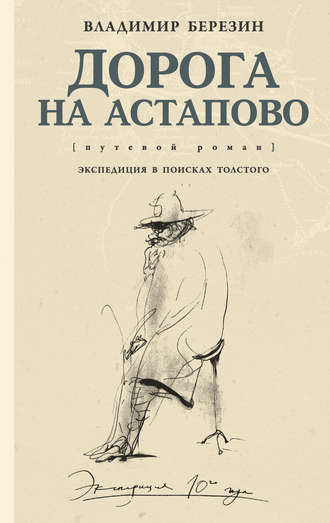
Владимир Березин
Дорога на Астапово
То есть доходу вышло сто рублей, а в прочие успешные годы выходило и по семьсот. Главным доходом была сдача лугов и земли – на полторы тысячи, кстати. И имение жило литературными деньгами, потребляя те самые гонорары Толстого, от которых он отказывался в общую народную пользу.
Но тут дорога свалилась с холма и выбежала к гнезду экскурсионных автобусов. Мы приехали. Я неловко вылез на обочину, небо успокоилось, внезапно сдёрнув с себя тучи, как купальный халат.
Когда я приехал в Ясную первый раз, то в окошке одной из привратных башен была выставлена табличка: «На сегодня все билеты проданы. За проход на территорию Заповедника – пятьдесят копеек».
Брать полтинник было некому.
Это уже потом ходил я внутрь безо всяких билетов, оттого что в музей меня звали специально.
Видел я и потомков Толстого и задружился с сотрудниками. О, они были куда прекраснее моей придуманной спутницы! У этих красивых молодых женщин было особое сестринское братство работниц Заповедника – словно монастырь. И особо они тревожились о тех сёстрах, что ушли в большой мир.
Да, есть писатели с имением и писатели без имения. И это определяет всё: и жизнь будущих музейных работников, и лицо национальной культуры.
Тут бы я двинулся к прудам, обязательно припомнив цитату из Ильфа и Петрова, знаменитую телеграмму, причём показал бы подлинный пруд, видевший отчаяние графини, а не большой, что слева от входа.
А от пруда уж тонкой тропкой отправился бы к оранжерее и прочим хозяйственным постройкам. Туда, где сохранились ещё контуры грядок и сараев.
Толстой большую часть жизни жил в Ясной Поляне и половину этой жизни декларативно мечтал избавиться от неё.
Но взаимоотношения Толстого со своим имением – великая история. Эти отношения были полны надежд, как утро жениха перед свадьбой, и изобиловали опасностями не меньшими, чем встреча с медведицей для охотника.
Предварительно нужно рассказать одну известную, но вечную притчу.
Одно из любимых моих мест у писателя Викентия Вересаева называется «Неопубликованная глава» и выглядит так:
«В газетах появились огромные объявления. Иллюстрированный еженедельник “Окно в будущее” сообщал читателям сенсационную новинку: в бумагах, оставшихся после Льва Толстого, найдена рукописная, совершенно отделанная глава из “Анны Карениной”; глава только по ряду случайных причин не была включена Толстым в роман.
Сообщалось, что глава эта, доселе нигде ещё не напечатанная, целиком появится в ближайшем номере журнала “Окно в будущее”.
И правда, появилась целая глава. Яркая, сильная, являвшая поистине вершину толстовского творчества.
Описывался сенокос.
“Бабы, с граблями на плечах, блестя яркими цветами и треща звонкими, весёлыми голосами, шли позади возов. Один грубый, дикий бабий голос затянул песню и допел её до повторения, и дружно, враз подхватили опять сначала ту же песню полсотни разных, грубых и тонких, здоровых голосов. Бабы с песнью приближались к Левину, и ему казалось, что туча с громом веселья надвигается на него. Туча надвинулась, захватила его, и копны, и воза, и весь луг с дальним полем – всё заходило и заколыхалось под размеры этой дикой развесёлой песни с вскриками, присвистами и ёканьями”.
Чувствовался и запах свежего сена, и напоённый солнцем воздух, и бодрая радость здорового труда.
Невольно хотелось вздохнуть поглубже, весело улыбаться.
Успех был огромный. Весь полумиллионный тираж номера разошёлся целиком; припечатали ещё двести тысяч, и те разошлись целиком.
Номер стоил двадцать копеек, за двадцать копеек читатель получил высочайшее наслаждение, за которое не жалко было бы заплатить даже рубль.
Все были очень довольны.
И вдруг… вдруг в газетах появились негодующие письма знатоков литературы.
Знатоки сообщили, что якобы до сих пор не опубликованная глава эта неизменно печатается во всех изданиях “Анны Карениной” начиная с первого появления романа в журнале “Русский вестник”, и в любом из изданий читатель может прочесть эту главу.
Негодование и возмущение было всеобщее. Да не может быть! Дойти до такого надувательства!
Но справились: верно. Слово в слово. Стоило платить двадцать копеек!
И тогда всем показалось, что они никакого удовольствия от прочитанного не испытали и только даром затратили двугривенный»[23].
Собственно, это описывает любое взаимодействие публики с текстом.
Надо, правда, помнить, что этот текст открывает сборник Вересаева, который называется «Выдуманные рассказы».
Внимательное перечитывание известных книг продолжает приносить удивительные открытия и обнаруживает не менее удивительные параллели с настоящим.
«Анна Каренина» – великий роман.
Он великий, потому что настоящий великий роман устроен как земной шар, о тайне которого рассказывал один профессор немолодому призывнику: тайна заключалась в том, что внутри земного шара имеется другой шар, значительно больше наружного.
С романами это случается чаще, чем с планетами.
Часто говорят, что «Анна Каренина» – это роман о семейном счастье.
Это неверно.
«Анна Каренина» – это роман о том, что люди хотят сделать как лучше, а у них получается как всегда.
Лучше во всём – в любви, варке варенья и устроении артели.
Семья входит в этот список.
Устроить жизнь лучше хотят Каренин, его жена, Левин, революционеры, официанты, светские дамы.
Кажется, одни крестьяне не хотят ничего устроить лучше, лучше для них – так, как всегда.
Крестьяне находятся в состоянии недоумения после реформы. Десять лет – достаточно большой срок, чтобы все недоумения рассеялись, но тут их недостаточно.
Была такая старая формула: «Мы ваши, а земля наша». А тут вышло по-другому, но всё равно как-то не так. Будто раздался отдалённый звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный.
Не то в шахтах сорвалась бадья, в общем, знак несчастья.
Мир полон примет: перед несчастьем кричит сова и особо гудит самовар.
Итак, кроме недоумения о неуспехе попыток переустроить отношения между мужчинами и женщинами, в этом романе многое сказано о попытках сделать жизнь государства и общества лучше.
Потрясение шестидесятых пореформенных годов не было кровавым, кровь появилась позже, когда многих не удовлетворила скорость изменений. Вот что интересно: когда Толстой начал писать «Анну Каренину», как раз случился крах Венской биржи, который перерос в мировой экономический кризис, кончившийся только лет через шесть. При этом марксисты говорили, что именно в тот момент капитализм вступил в монополистическую стадию и стал империализмом.
На следующий год была введена всеобщая воинская повинность.
В 1876-м началась война Сербии с Турцией, Россия вступила в неё на следующий год. И на эту войну уезжает в итоге Вронский.
Пока Толстой писал роман, изобрели аэродинамическую трубу, лампу накаливания, трансформатор, фонограф и телефон.
Чайковский сочинил «Лебединое озеро», а американский астроном Холл открыл спутники Марса Фобос и Деймос.
Но тут нужно сделать отступление, из которого можно понять ещё одну причину того, что «Анна Каренина» – великий роман.
В годы, когда начинается новая фаза движения социального поршня, который в нашем отечестве движется медленно, но неумолимо, многие люди начинают вспоминать то, как выглядела жизнь до того, как сорвалась бадья и началось несчастье.
Одни вспоминают упущенный шанс профсоюзов. Понятно, что они были никакие не профсоюзы, а государственная школа коммунизма, как у нас с тобой было написано в профсоюзных билетах водяными знаками. Но огромный социальный блок сопровождали именно они – санатории, профсоюзные путёвки, лечение в известной мере, спортивные и пионерские лагеря.
Другие говорят о печальной советской медицине. Она была нехороша, но то, что предполагается параллельным существованием, оказалось просто коррумпированной старой и недоступной платной.
Третьи говорят о пенсионной системе. Тут прямо хоть святых выноси.
Наконец, четвёртые вспоминают о жилье. Ведь в нашей стране прописка, а потом и документ о собственности, не собственно собственность, а социальный контракт, а деньги на жилье составляют не самую большую долю трат человека.
А вот коли она становится большей частью трат, так сразу делается неспокойно. То, что при прежней власти делалось уныло и скучно, плохо, но делалось, в девяностые не делалось вообще – ремонт жилого фонда, особенно в регионах, и проч., и проч. Население, столкнувшееся с ипотекой, увидело, что это вовсе не сахар даже по сравнению с советской системой распределения жилья.
Но это всё пустяки.
Главная беда в том, что наша ситуация первичного накопления капитала нарушила социальный контракт: к простому человеку, которому невозможно было разбираться со всеми тонкостями, пришли и сказали: сейчас тебе будет лучше, поверь нам. Ну, он поверил – неважно кому, неважно зачем, и вот теперь поршневая система пошла в обратную сторону и веры (а всё у нас зиждется на вере) никому нет.
И этот простой человек был правнуком тех крестьян, что сопротивлялись артельным экспериментам Левина.
Есть такая известная цитата из толстовского романа, когда Левин понимает, что жил дурно, хочет жить лучше, но вот как – не понимает.
«Иметь жену? Иметь работу и необходимость работы? Оставить Покровское? Купить землю? Приписаться в общество?[24] Жениться на крестьянке? Как же я сделаю это?»[25]
Выходит так, что в помещичьем хозяйстве совершить переворот легче, чем в семейном.
В общем, надо что-то делать, и для того, чтобы разложить перед читателем пасьянс возможностей, Толстой отправляет Левина на охоту.
В романе есть такой персонаж по фамилии Свияжский. Он предводитель дворянства в своём уезде. Он счастливо женат, но бездетен. За Левина хотят выдать его свояченицу, это знание в романе важное, но для нас – лишнее.
Левин приезжает к нему на охоту.
Охота нужна Толстому только как повод для разговора, и, чтобы отмахнуться от её описания, Толстой одним движением делает её неудачной.
Тип хозяина распространён среди нас и сейчас: «Свияжский был один из тех, всегда удивительных для Левина людей, рассуждение которых, очень последовательное, хотя и никогда не самостоятельное, идёт само по себе, а жизнь, чрезвычайно определённая и твердая в своем направлении, идёт сама по себе, совершенно независимо и почти всегда вразрез рассуждениям. Свияжский был человек чрезвычайно либеральный. Он презирал дворянство и считал большинство дворян тайными, от робости только не выражавшимися, крепостниками. Он считал Россию погибшею страной, вроде Турции, и правительство России столь дурным, что никогда не позволял себе даже серьезно критиковать действия правительства, и вместе с тем служил и был образцовым дворянским предводителем и в дорогу всегда надевал с кокардой и с красным околышем фуражку. Он полагал, что жизнь человеческая возможна только за границей, куда он и уезжал жить при первой возможности, а вместе с тем вёл в России очень сложное и усовершенствованное хозяйство и с чрезвычайным интересом следил за всем и знал всё, что делалось в России. Он считал русского мужика стоящим по развитию на переходной ступени от обезьяны к человеку, а вместе с тем на земских выборах охотнее всех пожимал руку мужикам и выслушивал их мнения. Он не верил ни в чох, ни в смерть, но был очень озабочен вопросом улучшения быта духовенства и сокращения приходов, причём особенно хлопотал, чтобы церковь осталась в его селе».
Свияжский современникам напоминал предводителя Епифанского уезда Самарина, ставшего потом тульским губернским предводителем.
Дальше говорится: «Если бы Левин не имел свойства объяснять себе людей с самой хорошей стороны, характер Свияжского не представлял бы для него никакого затруднения и вопроса; он бы сказал себе: дурак или дрянь, и всё бы было ясно. Но он не мог сказать дурак, потому что Свияжский был несомненно не только очень умный, но очень образованный и необыкновенно просто носящий своё образование человек… Ещё меньше мог Левин сказать, что он был дрянь, потому что Свияжский был несомненно честный, добрый, умный человек, который весело, оживлённо, постоянно делал дело, высоко ценимое всеми его окружающими, и уже наверное никогда сознательно не делал и не мог сделать ничего дурного»[26].
Вот дальше и начинается то, что теперь называется «сетевой срач», а тогда звалось «спор неравнодушных людей о будущем России».
Левин разговаривает с помещиками, и один из них сразу сообщает: «Где земля у меня при крепостном труде и хорошем хозяйстве приносила сам-девять, она исполу принесет сам-третей. Погубила Россию эмансипация!»
Про этого помещика (он немного похож на брата писателя и немного – на Фета, но вообще – на множество небогатых помещиков) Толстой пишет как про блогера: «Помещик, очевидно, говорил свою собственную мысль, что так редко бывает, и мысль, к которой он приведён был не желанием занять чем-нибудь праздный ум, а мысль, которая выросла из условий его жизни, которую он высидел в своем деревенском уединении и со всех сторон обдумал». Он сообщает присутствующим вечную мысль о том, что «всякий прогресс совершается только властью… Возьмите реформы Петра, Екатерины, Александра. Возьмите европейскую историю. Тем более прогресс в земледельческом быту. Хоть картофель – и тот вводился у нас силой. Ведь сохой тоже не всегда пахали. Тоже ввели её, может быть, при уделах, но, наверно, ввели силою. Теперь, в наше время, мы, помещики, при крепостном праве вели своё хозяйство с усовершенствованиями; и сушилки, и веялки, и возка навоза, и все орудия – всё мы вводили своею властью, и мужики сначала противились, а потом подражали нам. Теперь-с, при уничтожении крепостного права у нас отняли власть, и хозяйство наше, то, где оно поднято на высокий уровень, должно опуститься к самому дикому, первобытному состоянию. Так я понимаю».
Ему говорят, что хозяйство можно вести наймом, а он отвечает, что власти у него нет.
Ему отвечают, что рабочими (тут надо понимать, что имеются в виду не марксистские рабочие), но помещик гнёт своё: «Рабочие не хотят работать хорошо и работать хорошими орудиями. Рабочий наш только одно знает – напиться, как свинья, пьяный и испортит всё, что вы ему дадите. Лошадей опоит, сбрую хорошую оборвёт, колесо шинованное сменит, пропьёт, в молотилку шкворень пустит, чтобы её сломать. Ему тошно видеть всё, что не по его. От этого и спустился весь уровень хозяйства. Земли заброшены, заросли полынями или розданы мужикам, и где производили миллион, производят сотни тысяч четвертей; общее богатство уменьшилось. Если бы сделали то же, да с расчётом…»
Тут, правда, помещик начинает рассказывать свой план освобождения крестьян, но его никто не слушает. Примерно так же это интересно, как истинный план перестройки, который тебе рассказывают в социальных сетях.
Левин с помещиком соглашается, а вот Свияжский полон оптимизма и говорит, что всё можно поправить, и всё от нашего незнания, и дрянную молотилку сломают, а его паровую не сломают. Русскую лошадёнку испортят, а першеронов и битюгов не испортят. И как публицист заканчивает: «Нам выше надо поднимать хозяйство».
Свияжскому замечают, что денег на першеронов нет, а тот парирует: на то и банки.
Осторожные помещики кричат:
– Чтобы последнее с молотка продали? Нет, благодарю!
Левин тут, скорее, на стороне непоименованного помещика и говорит: «Я не согласен, что нужно и можно поднять ещё выше уровень хозяйства. Я занимаюсь этим, и у меня есть средства, а я ничего не мог сделать. Банки не знаю кому полезны. Я по крайней мере на что ни затрачивал деньги в хозяйстве, всё с убытком: скотина – убыток, машины – убыток».
А потом использует жёсткий приём и спрашивает, прибыльно ли хозяйство Свияжского. Приём этот жесткий, потому что все знают, что убытка у оптимиста перестройки вышло на три с лишком тысячи рублей. Тот отбивается, говорит, что, может, он плохой хозяин, а может, затрачивает капитал на увеличение ренты.
«Ах, рента! – с ужасом воскликнул Левин. – Может быть, есть рента в Европе, где земля стала лучше от положенного на неё труда, но у нас вся земля становится хуже от положенного труда, то есть что её выпашут, – стало быть, нет ренты.
– Как нет ренты? Это закон.
– То мы вне закона: рента ничего для нас не объяснит, а, напротив, запутает. Нет, вы скажите, как учение о ренте может быть…»
Но тут оптимист предлагает откушать простокваши, и спор заканчивается.
Впрочем, угрюмый непоименованный помещик в качестве союзника Левину приносит мало радости: «Помещик был, как и все люди, самобытно и уединённо думающие, туг к пониманию чужой мысли и особенно пристрастен к своей. Он настаивал на том, что русский мужик есть свинья и любит свинство и, чтобы вывести его из свинства, нужна власть, а её нет, нужна палка, а мы стали так либеральны, что заменили тысячелетнюю палку вдруг какими-то адвокатами и заключениями, при которых негодных, вонючих мужиков кормят хорошим супом и высчитывают им кубические футы воздуха».
Поевший простокваши Свияжский вступает с новой порцией социального оптимизма: «Остаток варварства, – говорит он, – первобытная община с круговою порукой сама собой распадается, крепостное право уничтожено, остаётся свободный труд, и формы его определены и готовы, и надо брать их. Батрак, подённый, фермер – и из этого вы не выйдете». Ему говорят, что худо будет.
Но дальше начинается конфуз: разговор переходит в ту же стадию, в какую приходил он, когда одна девочка спрашивает, что произойдёт, когда за чайным столом кончится чистая посуда и пересаживаться будет некуда.
Левина грызёт смутное недовольство собой, смешанное с надеждой, что ответ всё-таки есть, и, ворочаясь на гостевой кровати, он думает:
«Да, я должен был сказать ему: вы говорите, что хозяйство наше нейдёт потому, что мужик ненавидит все усовершенствования и что их надо вводить властью; но если бы хозяйство совсем не шло без этих усовершенствований, вы бы были правы; но оно идёт, и идёт только там, где рабочий действует сообразно с своими привычками, как у старика на половине дороги. Ваше и наше общее недовольство хозяйством доказывает, что виноваты мы или рабочие. Мы давно уже ломим по-своему, по-европейски, не спрашиваясь о свойствах рабочей силы. Попробуем признать рабочую силу не идеальною рабочею силой, а русским мужиком с его инстинктами и будем устраивать сообразно с этим хозяйство. Представьте себе, – должен бы я был сказать ему, – что у вас хозяйство ведётся, как у старика, что вы нашли средство заинтересовывать рабочих в успехе работы и нашли ту же середину в усовершенствованиях, которую они признают, – и вы, не истощая почвы, получите вдвое, втрое против прежнего. Разделите пополам, отдайте половину рабочей силе; та разность, которая вам останется, будет больше, и рабочей силе достанется больше. А чтобы сделать это, надо спустить уровень хозяйства и заинтересовать рабочих в успехе хозяйства. Как это сделать – это вопрос подробностей, но несомненно, что это возможно».
Левину в результате не терпится «предложить мужикам новый проект».
Он хочет «принять участие, как пайщику, вместе с работниками во всём хозяйственном предприятии». Но ни приказчику, ни мужикам это не интересно, приказчик отводит глаза, скотник не может его никак дослушать и находит себе тут же какие-то дела.
«Другая трудность состояла в непобедимом недоверии крестьян к тому, чтобы цель помещика могла состоять в чём-нибудь другом, чем в желании обобрать их сколько можно. Они были твёрдо уверены, что настоящая цель его (что бы он ни сказал им) будет всегда в том, чего он не скажет им.
И сами они, высказываясь, говорили многое, но никогда не говорили того, в чём состояла их настоящая цель. Кроме того (Левин чувствовал, что желчный помещик был прав), крестьяне первым и неизменным условием какого бы то ни было соглашения ставили то, чтобы они не были принуждаемы к каким бы то ни было новым приемам хозяйства и к употреблению новых орудий. Они соглашались, что плуг пашет лучше, что скоропашка работает успешнее, но они находили тысячи причин, почему нельзя было им употреблять ни то, ни другое, и, хотя он и убеждён был, что надо спустить уровень хозяйства, ему жалко было отказаться от усовершенствований, выгода которых была так очевидна.
Но, несмотря на все эти трудности, он добился своего, и к осени дело пошло, или по крайней мере ему так казалось».
Сначала Левин хочет сдать всё хозяйство мужикам на «новых товарищеских условиях», но «очень скоро убедился, что это невозможно, решился подразделить хозяйство. Скотный двор, сад, огород, покосы, поля, разделённые на несколько отделов, должны были составить отдельные статьи. Наивный Иван-скотник, лучше всех, казалось Левину, понявший дело, подобрав себе артель, преимущественно из своей семьи, стал участником скотного двора. Дальнее поле, лежавшее восемь лет в залежах под пусками, было взято с помощью умного плотника Фёдора Резунова шестью семьями мужиков на новых общественных основаниях, и мужик Шураев снял на тех же условиях все огороды. Остальное ещё было по-старому, но эти три статьи были началом нового устройства и вполне занимали Левина».
Но дела вовсе не идут лучше.
Посевная проваливается, как писали потом в колхозных сводках. Скотный двор не строится.
Крестьяне считают, что им платят жалованье, а не аванс, и говорят Левину: «Получили бы денежки за землю, и вам покойнее, и нам бы развяза».
Вдогон к этому упомяну цитату, описывающую состояние, которое испытывал хотя бы раз каждый из родителей: «Левину вспомнилась недавняя сцена с Долли и её детьми. Дети, оставшись одни, стали жарить малину на свечах и лить молоко фонтаном в рот. Мать, застав их на деле, при Левине стала внушать им, какого труда стоит большим то, что они разрушают, и то, что труд этот делается для них, что если они будут бить чашки, то им не из чего будет пить чай, а если будут разливать молоко, то им нечего будет есть и они умрут с голода.
И Левина поразило то спокойное, унылое недоверие, с которым дети слушали эти слова матери. Они только были огорчены тем, что прекращена их занимательная игра, и не верили ни слову из того, что говорила мать. Они и не могли верить, потому что не могли себе представить всего объёма того, чем они пользуются, и потому не могли представить себе, что то, что они разрушают, есть то самое, чем они живут».
Эту цитату можно, конечно, перевести на весь русский народ, но это неинтересная аналогия.
«Спокойное, унылое недоверие, с которым дети слушали слова матери» – вот Лев Николаевич умер, и никто лучше не скажет.
Это про всю нашу жизнь.
При этом Левин пишет сельскохозяйственную книгу, что всё объяснит.
Он перечитывает модных предшественников и видит, что «он думал, что русский народ, имеющий призвание заселять и обрабатывать огромные незанятые пространства сознательно, до тех пор, пока все земли не заняты, держался нужных для этого приёмов и что эти приёмы совсем не так дурны, как это обыкновенно думают. И он хотел доказать это теоретически в книге и на практике в своем хозяйстве».
Но в итоге Левин вдруг понимает, что ненавидит всё это: и споры с мужиками, и саму эту деятельность.
Важно, что, когда пишется «Анна Каренина», «сельскохозяйственные увлечения автора уже остыли», как говорил его сын[27].
И перегорело это всего за один 1859 год, довольно далеко отстоящий от времени действия романа.
О начинаниях Левина очень любопытно читать одновременно со знаменитыми «Письмами из деревни» Энгельгардта.
Александр Николаевич Энгельгардт был в высшей степени примечательный человек: с одной стороны, выпускник Михайловского артиллерийского училища, а с другой стороны, химик. И, кроме собственно занятий наукой, преподавал в столичном Земледельческом институте.
Через год после студенческих волнений 1870 года он был выслан в Смоленскую губернию, где, собственно, с ним и случилось превращение в крепкого хозяйственника, одновременно и практика, и теоретика, а после он и вовсе организовал курсы для «интеллигентных помещиков», то есть, конечно, «умных хозяйственников».
Всю эту опытную станцию потом выкупило Министерство сельского хозяйства, при советской власти она и вовсе разрослась и даже получила орден Трудового Красного Знамени. Советская власть и больше возлюбила бы память народника Энгельгардта, но Ленин упомянул его в своей статье «От какого наследства мы отказываемся».
Правда, немцы разделали станцию под головешки, и в нынешнем Батищеве об Энгельгардте мало что напоминает.
Кстати, к сыну Энгельгардта Михаилу – оба сына, и Михаил, и Николай, были людьми пишущими в том синтетическом для России смысле, что занимались и прозой, и публицистикой, – так вот, именно к Михаилу обращено знаменитое письмо Толстого о непротивлении злу насилием (оно вообще-то называется «О насилии. (О непротивлении злу злом)»).
Но я отвлёкся.
Александр Николаевич из своей ссылки присылал письма, которые печатались в «Отечественных записках» в то время как раз, когда писалась «Анна Каренина», в 1872–1882 годах.
И вот что интересно: Левин, переживающий сперва чрезвычайное воодушевление, хочет (как и Толстой) гармонии.
Энгельгардт, который, понятно, вовсе не чужд народного блага, да и сын-эсер не чужд был, да и второй, умерший в первый блокадный год, хоть и тесть Гумилева, тоже не мироед какой. Но Энгельгардт – хороший химик (он между делом объясняет своей Авдотье, как «при варке сиропа кристаллический сахар под влиянием кислоты перешёл в виноградный и сироп сгустится настолько, что брожения не будет», а равно и тонкости консервирования) и совершенно рационально (в отличие от Левина) ставит себе задачи и их решает.
Как раз Энгельгардт – это такой герой сельскохозяйственной науки, который много что придумал в части удобрений разного типа.
Однако ж честному обывателю Александр Николаевич ценен тем, что он, человек литературно одарённый (не во многом хуже Салтыкова), много что в деревенской жизни понял и нам рассказал.
Причём не только о севообороте и фосфатных удобрениях, а об иррациональности этой жизни: «Тому, кто знает, что весь мужик убеждён, что “всё” сделали господа из мести за волю, тому, кто знает, что ближайшее к мужику начальство – староста, волостной, десятский, сотский – тоже мужики и как мужики совершенно убеждены, что бунтуют именно господа, будет совершенно ясно, какая в настоящее время существует в деревне путаница понятий. Здесь, в деревне, поминутно натыкаешься на такие рассуждения, которые напоминают рассказ о солдате, который на вопрос, зачем ты тут поставлен, отвечал: “Для порядка”. – “Для какого порядка?” – “А когда жидовские лавки будут разбивать, так чтобы русских не трогали”».
Или рассуждения про то, как пьёт русский народ: что мужики (не приказчики, а именно мужики), собственно, не пьют, а веселятся по праздникам – пусть до тяжкого состояния, а вот господа, к примеру, выпивают перед обедом для аппетиту. Мужику же сего не надо, потому что у него аппетит и так есть.
Ну и тому подобное дальше.
Левин недоумевает, почему мужики не хотят жить лучше, Энгельгардт же (тут намеренно происходит сравнение персонажа с живым человеком, а не писателя с учёным) совершенно трезво оценивает ситуацию.
Энгельгардт с Левиным оба что-то пишут: персонаж – книгу, которая всё объяснит, а Энгельгардт – свои «Письма».
Энгельгардт не хуже и не лучше Толстого-хозяйственника, как не лучше придуманного Левина.
Но Левин всё время сбивается на душу, предназначение и прочие малоосязаемые материи, а Энгельгардт даже из своих фосфоритов спасения человечества не выводит.
Хотя понятно, что в области литературной фосфориты метаниям Левина конкуренции не составят.
После экономических попыток Левина проходит целая жизнь, приключается вся главная история Анны Карениной и женится сам Левин.
В конце концов Левин попадает на выборы в Дворянское собрание придуманной Кашинской губернии, очень похожей на Тульскую.
В дворянское собрание полагается ездить в дворянском мундире. Он обходится Левину в восемьдесят рублей, и то, что жена их уже уплатила, становится поводом поехать на выборы.
Дворянский мундир – вещь давно позабытая, и относился он к гражданским мундирам, которые на протяжении веков менялись сильно. Толстой описывал дворян в собрании, которые явились туда в мундирах старого образца. Помещики были уже толсты, а мундиры, пошитые в лучшие годы, трещали на животах.
Это, видимо, мундиры ещё образца 1832 года, с особым шитьем на воротнике для служивших и для предводителей. «Вместе с тем, – пишет историк, – форменная одежда была дополнена повседневной – тёмно-зелёными мундирным фраком и однобортным сюртуком (не имевшим выреза юбки спереди) с тёмно-зелёными же суконными воротниками и обшлагами. Сюртук предназначался для надевания как на мундир (в качестве наружного платья), так и вместо него. К парадным кафтанам полагались белые штаны до колен или длинные брюки под цвет кафтана; такие же брюки должны были надеваться с сюртуком и фраком. Чёрная треугольная шляпа, носившаяся с дворянским мундиром, была дополнена чёрной круглой шляпой с полями и тёмно-зелёной суконной фуражкой с красным околышем, которые должны были носиться соответственно с мундирным фраком и сюртуком. Фуражка со временем получила широкое распространение в быту как простейший знак дворянского достоинства»[28].
Толстой описывает мундиры так: «Старые были большею частью или в дворянских старых застегнутых мундирах, со шпагами и шляпами, или в своих особенных, флотских, кавалерийских, пехотных, выслуженных мундирах. Мундиры старых дворян были сшиты по-старинному, с буфочками на плечах; они были очевидно малы, коротки в талиях и узки, как будто носители их выросли из них. Молодые же были в дворянских расстёгнутых мундирах с низкими талиями и широких в плечах, с белыми жилетами, или в мундирах с чёрными воротниками и лаврами, шитьём министерства юстиции. К молодым же принадлежали придворные мундиры, кое-где украшавшие толпу».
У самого Толстого в сундуке лежали два мундира – собственный и мундир его отца.
«В 1855 г. вместе с изменением фасона гражданского мундира был изменён и фасон дворянского губернского форменного платья. Парадный мундир приобрел полную юбку длиной 13 см выше колен и стал называться полукафтаном. Карманные клапаны сзади стали располагаться вертикально. Фрак и сюртук сохранялись, причём последний становился двубортным и получил отложной воротник. Белые короткие штаны упразднялись. В таком виде дворянская форменная одежда просуществовала до Февральской революции 1917 г. <…> Обратим внимание на ту особенность дворянских мундиров, что они ни до 1832 г., ни после никак не отражали знатность дворянских родов, в частности наличие у некоторых из них баронских, графских и княжеских родовых титулов. Единственным средством внешнего (изобразительного) отображения этих титулов оставался дворянский герб. Однако и он не был использован в оформлении дворянского мундира»[29].