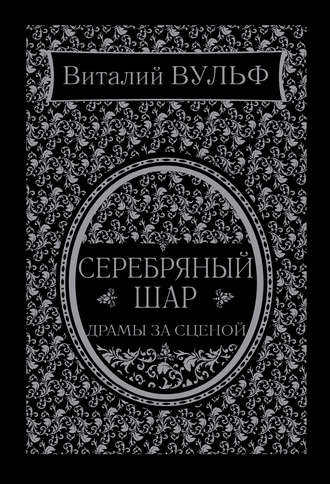
Виталий Вульф
Серебряный шар. Драма за сценой
Нет смысла вступать в дискуссию с автором. Но понятно, почему после публикации глав в газете «Известия» слово «непристойно» повторяла театральная Москва. Это уже потом, после выхода книги, были напечатаны восторженные рецензии, на презентации в Еврейском культурном центре пели осанну Смелянскому, что никак не меняет мнения о книге. Одним нравится, другим нет. Каждый остается при своем.
Ефремов в последние годы своей жизни жил с ощущением безнадежности. Менялось время, 90-е годы стали еще жестче и оголеннее, люди привыкли наносить друг другу ущерб, ценностью почиталось то, что Ефремову было изначально чуждо. Новые порядки он не признавал. Он дружил с Горбачевым, социализм с человеческим лицом был ему понятнее и ближе. Потом он от всего отстранился, и к его алкоголизму все это не имело никакого отношения.
Удивляет способность автора «Уходящей натуры» раздавать щелчки тем, кто его не любил, и делать это после их смерти.
Рассказывая о визите к министру культуры Демичеву по поводу пьесы Рощина «Перламутровая Зинаида», Смелянский описывает, как вела себя Степанова, делая «фирменные пассы шеей и головой, которые когда-то навеяли ее партнеру и другу Ливанову образ «змеи чрезвычайного посола» (Степанова играла Коллонтай в пьесе «Чрезвычайный посол»). Старый каламбур Ливанова, произнесенный им лет за пятнадцать до прихода Смелянского в театр, автор слышал, как и многое другое, в закулисной толчее.
Анна Ахматова в своих «Листках из дневника» писала о «свято сбереженных сплетнях». Пассаж о Степановой из этого цикла.
Нехорошо писать о старой выдающейся актрисе «иссохшая» в ее почтенные годы или намекать на ее «темную роль» в закрытии эфросовских «Трех сестер».
Степанова не любила Смелянского и не скрывала этого. Помню, как незадолго до столетия МХАТа Ефремов обратился к ней с просьбой принять Смелянского, снимавшего какой-то фильм о Художественном театре. Олег Николаевич долго убеждал ее в том, что без нее нельзя обойтись. Она была непреклонна. Смелянского она отказалась принимать категорически. Олег был очень недоволен ею. Он часто бывал ею недоволен, хотя почти до самых последних лет приезжал к ней на улицу Танеева 23 ноября, в день ее рождения. Он помнил, что она всегда поддерживала его в очень трудные для него дни. В театре она уже бывала редко.
София Станиславовна Пилявская приняла на себя, того никак не желая, роль Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой. Она была своим человеком в доме Ольги Леонардовны, дружила с Массальским, Орловым, Марковым, была навечно предана культуре старого Художественного театра и категорически настроена против Ефремова, когда он пришел во МХАТ. Но к концу своей жизни стала страстной его почитательницей. Играла много, никогда за всю свою долгую жизнь в театре она не сыграла столько премьер, сколько в последние, ефремовские, годы, и, естественно, вокруг нее был создан ореол. Но Ефремов (да и не он один) понимал разницу между Степановой и Пилявской, и потому на столетнем юбилее театра Ангелина Иосифовна, сидя в кресле в роскошном платье от Славы Зайцева, произносила речь, как единственная оставшаяся в живых из «великих стариков», что вызвало несмолкаемые овации в зрительном зале. Ефремов стоял перед ней на коленях, это видела вся страна (юбилейный вечер транслировали по Первому каналу). Было ей тогда 93 года.
Она умерла за неделю до смерти Ефремова, и он ее хоронил. Я был в Нью-Йорке в это время и метался от невозможности проводить Ангелину Иосифовну в последний путь. Рассказывали, что Ефремов плакал на ее похоронах, прежде это было ему несвойственно.
Она действительно выступала на партийной конференции против эфросовских «Трех сестер» в конце 60-х годов (это было мнение всех ее коллег, мхатовские старики были очень консервативны), но перед премьерой «Женитьбы» в Театре на Малой Бронной Эфрос позвонил мне и попросил привезти на генеральную репетицию Ангелину Иосифовну. Я отказывался, это было вскоре после смерти мамы, я еще никуда не выходил, но Анатолий Васильевич настаивал и долго объяснял, как это ему нужно. В те годы не поддаться его натиску я не мог, и мы со Степановой посмотрели «Женитьбу», один из самых прекрасных спектаклей, поставленных им.
Потом, уже во МХАТе, Эфрос занял ее в «Тартюфе» и в «Живом трупе», где она великолепно играла Каренину с Прудкиным – Абрезковым, и в середине 70-х годов снял ее и Кторова в телевизионном спектакле «Милый лжец», его по сей день изредка показывают на телевизионном экране. Ефремов называл этот спектакль «единственным событием театра в 60-е годы». В «Милом лжеце» Степанова и Кторов как бы обрели второе дыхание, раскрепостив какие-то совсем неожиданные силы своих дарований, оба явили вдохновенный взлет таланта. Сегодня, спустя сорок лет после премьеры, смотришь телевизионную версию спектакля, созданную Анатолием Эфросом (в театре спектакль ставил И.М. Раевский), и сразу попадаешь в мир великого искусства. Кторов и Степанова творили вокруг себя особое магнитное поле «интеллектуальной акробатики». С экрана веет благородством и сдержанностью.
Да, мхатовские старики были конформисты, и МХАТ советского периода служил верно и слепо советской власти, все это так, но помним мы их не за это, а за силу их актерского мастерства, за то, что заставляли зал волноваться, страдать и радоваться.
В «Уходящей натуре» летят камешки и стрелы в Доронину и в Мирошниченко, одна из них была членом КПСС, другая хотела вступить в партию. Попадание точное, не придерешься, все соблюдено, вот только сам Анатолий Смелянский вступил в партию в 1978 году, когда уже спокойно можно было не вступать, если у тебя не было карьерных соображений, но об этом – ни слова. Так и создается портрет МХАТа 80—90-х годов, с обобщениями, не имеющими порой ничего общего с реальным течением событий. Иногда удивляешься зоркости авторского глаза, сохраненной памяти, точности пера, иногда – недоброте, мелкости помыслов и желанию расправиться со всеми, кто не любил «серого кардинала», принесшего немало бед дряхлеющему театру.
Можно было быть членом партии, можно было не быть, я знаю немало достойнейших людей, состоявших членами партии, только ерничать по этому поводу ни к чему.
На самом деле все было гораздо сложнее, труднее и напряженнее. Комфортабельное устройство быта работников МХАТа в советские времена не совпадало с их житейской удачливостью, скорее наоборот. Терпимость составляла основу внутренней дисциплины, этому учил еще Немирович-Данченко, талант был дан природой.
Помню, как поразил меня Андрей Алексеевич Белокопытов (он был заместителем директора театра – главным администратором), знавший наизусть Гумилева, а «великий доставала» Виктор Лазаревич Эдельман (тоже заместитель директора МХАТа тех лет) был на редкость добрым человеком и, несмотря на громкий голос и предельную невоспитанность, откликался на все просьбы, с которыми к нему обращались.
Все давно умерли, ответить на выпады уже никто не может, интересно все это только узкому театральному кругу.
Да, конечно, во МХАТе в те годы были и косность, и чопорность, и застойная приверженность старым привычкам, но были и душевное богатство, и верность любимому театру, прекраснее которого не было ничего на свете для тех, кто там служил, – даже тогда, когда счастливые времена были уже далеко позади. К концу 90-х годов все уже стало иначе.
Секретарем Ефремова была Ирина Григорьевна Егорова, женщина замечательного ума, знавшая театр до тонкостей. Она пришла во МХАТ в 1948 году и до своей болезни (Ирина Григорьевна умерла в 1995 году) сидела в том самом «предбаннике», куда приходили прославленные и незаметные артисты театра и все его сотрудники. Она любила Ефремова, любила его как родного, заботилась о нем и знала наизусть все его человеческие слабости. Когда она перестала работать, первое, что сделала пришедшая на ее место сотрудница литературной части МХАТа Татьяна Горячева, – объявила, что ее должность называется не секретарь Ефремова, а помощник. Для Ирины Григорьевны было совершенно безразлично, как называлась ее должность.
Татьяна Горячева тоже любила Ефремова, носила ему чай, обихаживала его и была ему нужна и очень полезна, теперь она работает помощником Смелянского в Школе-студии МХАТа, конечно, не секретарем, а именно помощником, и, наверное, служит ему верно и искренне.
Ирина Григорьевна – она сменила на этом месте Ольгу Сергеевну Бокшанскую, которую увековечил Булгаков в «Театральном романе» в образе Поликсены Торопецкой, – сумела из своей скромной должности сотворить целостный мир, и ее положение во МХАТе было очень высоким. МХАТ был ее жизнью. Она понимала, что такое драма нереализованности творческих сил актера, в чем заключается проза закулисной жизни, досконально знала все, что происходит в театре, и Ефремов очень прислушивался к ней. Когда хотела, могла с чувством юмора вносить отрезвляющие поправки в его решения. Короче – она была мудра. Вышколенная, всегда подтянутая, идеальный сотрудник театра и крупный человек. Когда я писал книгу о Степановой, Ефремов разрешил мне познакомиться с протоколами художественных советов начиная с 1949 года, которые хранились у Ирины Григорьевны. В музей тогда они еще не были сданы. Я приходил в театр к 11 утра и почти целый день, вызывая любопытство окружающих, читал все эти бумаги, блистательно записанные Егоровой (она вела протоколы заседаний). Сидя за маленьким неудобным столиком напротив Ирины Григорьевны, я невольно становился свидетелем всех перипетий мхатовской жизни.
Ирина Григорьевна любила работать, а не «перетирать время». Она великолепно печатала на машинке, безукоризненно вежливо отвечала на все телефонные звонки, кто бы ни звонил, умело подсказывала, как себя вести с Ефремовым, тем, кто не пользовался его расположением. Мгновенно реагировала на все его «приливы» и «отливы», замечала все морщинки разочарования на лицах, все следы жизненной борьбы, хорошо понимая, как складывается личность человека, без которой нет и профессии.
Иностранных языков она не знала, но короткое сообщение могла прочесть на английском и французском. Любящие называли Ирину Григорьевну «Аришей». Семьи у нее не было, усталости она не знала и находилась в театре целыми днями – смотрела спектакли, следила, чтобы ни одно письмо Ефремову не осталось неотвеченным. По выражению ее лица можно было сразу догадаться, кого сегодня любит Ефремов. Она прошла большую школу мхатовской жизни. Когда-то до МХАТа работала в Комитете по Сталинским премиям, потом – секретарем Тарасовой, когда Алла Константиновна была директором театра, память у Ирины Григорьевны была исключительная.
В мхатовской энциклопедии о ней написано несколько фраз, и текст заканчивается тем, что, если бы Булгаков был жив, Ирина Григорьевна могла бы послужить моделью для нового «Театрального романа».
Любовь к Булгакову сыграла злую шутку с авторами мхатовской энциклопедии, булгаковским ключом они пытаются открыть все человеческие души, а Ирина Григорьевна – не предмет для иронии, и ни к чему из нее лепить новую Торопецкую. Она была глубоким и выдающимся человеком. Ее любил Ефремов, она дружила с Тарасовой и Степановой, была близким другом режиссера Раевского, поставившего «Милого лжеца». За ее биографией – история старого МХАТа.
Помню, как в маленькой комнате рядом с кабинетом Ефремова Ирина Григорьевна кормила его обедом – обычно после трех часов дня, когда кончались репетиции. Очень часто я обедал вместе с ним. Свободным временем я тогда располагал, в институте занят был не каждый день, работы на телевидении у меня еще не намечалось, а МХАТ был любимым местом, тем более что я работал года два над протоколами. Все это длилось, пока отношения с Ефремовым с чьей-то «легкой» руки не стали разлаживаться. Потом они восстановились, но, как известно, заштопанное остается заштопанным. Ефремов любил подначивать Ирину Григорьевну на тему ее преданности советской власти, а она подыгрывала ему, зная, что он любит эту «игру», а цену советской власти знала прекрасно. Жизнь во МХАТе приучила ее к осторожности и аккуратности, и она охраняла себя, пряча за юмором то, что думала на самом деле.
Когда о секретаре, сменившем Егорову, написано в энциклопедии, что она «поддержала традиционную для МХАТа безупречную обязательность и дух культурной доброжелательности», мне стало обидно за Ирину Григорьевну – о ней написано мало и формально.
Мы живем в странное время: многие вываливают наружу все свои старые комплексы, обиды, у кого-то возникло желание рассчитаться со МХАТом, расправиться с ним, игнорируя обаяние старого театра и его духовные странствия в годы советской власти, сохранившиеся в лучших его работах и помогавшие людям выживать в развороченном и опустошенном мире.
Совсем не о МХАТе
В своей библиотеке я нашел маленькую книжечку «Дмитрий Николаевич Журавлев». На оборотной стороне титульного листа написано: «Милому, милому, дорогому Виталику Вульфу. С благодарностью за внимание, заботу, ласку. За чудесные ночные разговоры. За прелестные показы. За Марью Ивановну. За то, что Вы очень хороший, талантливый, тонкий и чуткий человек. От души желаю Вам творческих и жизненных успехов, радости и всего светлого. На память о наших бакинских встречах в марте 1957 года. Любящие Журавли».
Эта добрая надпись с сильно преувеличенными похвалами сделана выдающимся чтецом Дмитрием Журавлевым. Недавно отметили столетие со дня его рождения, в Доме актера был вечер, но мне не позвонили, и узнал я о нем слишком поздно.
Познакомился я с Дмитрием Николаевичем еще в студенческие годы в доме когда-то очень известного замечательного чтеца Антона Шварца, папиного товарища. В годы войны Антон Исаакович Шварц и его умнейшая жена, Наталия Борисовна, жили у нас подолгу.
После окончания университета я пытался поступить в аспирантуру, экзамены сдавал три года подряд. У меня даже сохранилась справка: «Дирекция Всесоюзного Института юридических наук подтверждает, что Вульф Виталий Яковлевич сдал все вступительные экзамены в аспирантуру на «отлично». Дирекция не считает возможным принять его в аспирантуру». В те годы решение института о приеме в аспирантуру должно было утверждаться министерством юстиции, в ведении которого находился институт. Министерство не утвердило мою кандидатуру, судя по всему, по национальному признаку. Отец этого не мог пережить. Поступил я в аспирантуру только осенью 1957 года на заочное отделение. Надо было работать и зарабатывать, и после сдачи экзаменов и уведомления, что принят, я вернулся в Баку.
Еще до моего поступления в аспирантуру, в марте, в Баку проходили гастроли Журавлева. Он с невероятным мастерством читал «Кармен» Мериме, «Даму с собачкой» Чехова, рассказы Мопассана «Лунный свет» и «Мисс Гарриет». Я ходил на все его концерты. Это был выдающийся человек. Невысокий, острый, нервный, талантливый, темпераментный, подвижный, с быстрыми черными глазами, обожавший своих дочерей Машу и Наташу и любивший искусство больше самого себя.
Отца уже не было в живых, умерла и моя любимая тетя Ида, женщина очень красивая, благородная, ненавидевшая сталинский режим и самого Сталина. В один из моих приездов на каникулы домой, незадолго до своей смерти, она рассказала, что у меня есть дядя, ее брат, живущий в Голландии (он уехал за границу еще в 1912 году), и тогда же показала мне старые открытки Женевы, Лозанны, Цюриха, где проводила время до революции. После войны она жила в страхе за папу, за своего мужа, очень умного религиозного человека, и с ужасом следила, как разворачивается антисемитская кампания. Ее не стало в 1952 году.
Живы были только мама и Белла. Журавлевы все свободное время проводили в нашей большой (по тем временам) квартире: двухкомнатной, 52 метра. Белла особенно нравилась Дмитрию Николаевичу. Она поделилась с ним своим желанием, чтобы я вновь уехал в Москву, поступил, наконец, в аспирантуру – тогда казалось, что это спасение и единственная возможность снова оказаться в столице.
В Москву я переехал окончательно только в 1962 году. Но тогда, в далекую весну 1957 года, встречи с Журавлевым и его женой, умнейшей, сильной по характеру Валентиной Павловной, заполняли меня целиком. Дома было грустно, мама никак не могла оправиться после смерти отца, меня спасали молодость и легкомыслие. Душа моя была в Москве. Дмитрий Николаевич почти ежедневно звонил в Москву, он преподавал в Школе-студии мастерство художественного слова, там же училась его дочь, он ее называл Тутик (ныне актриса «Табакерки» Наталья Дмитриевна Журавлева). У него учились Татьяна Лаврова, Алла Покровская, Александр Лазарев, Александр Филозов.
Сам Журавлев был когда-то артистом Вахтанговского театра, играл китайского императора Альтоума в «Принцессе Турандот», но начиная с середины 30-х годов увлекся художественным чтением и в 1940 году окончательно покинул театр и ушел на эстраду.
В годы, когда я учился в университете, чтецкие вечера были очень популярны. Великий чтец Владимир Яхонтов уже умер, но часто выступали с концертами Антон Шварц, Сурен Кочарян, Эммануил Каминка… Дмитрий Журавлев пользовался огромным успехом. В Москве я постоянно ходил на его концерты. Любил в его исполнении Маяковского, «Египетские ночи» Пушкина и особенно – «Медного всадника»:
Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась…
Возникали ассоциации, совсем не связанные с «Медным всадником».
Потом, когда я учился в заочной аспирантуре и два раза в год приезжал в Москву, оставаясь здесь каждый раз месяца на два, на три, я почти ежедневно бывал в маленькой квартирке Дмитрия Николаевича на улице Вахтангова, на первом этаже. Дверь у них никогда не запиралась, постоянно бывали люди. В его крошечном кабинетике все стены были завешаны фотографиями с надписями – портреты Ахматовой, Книппер-Чеховой, Улановой, Рихтера, Нины Дорлиак, Качалова висели впритирку друг к другу. Везде он бывал, и везде был любим. Домом правила Валентина Павловна, в прошлом певица, не сделавшая карьеры и целиком посвятившая себя Дмитрию Николаевичу и девочкам.
Работал Журавлев очень много, часто ходил в дом Елизаветы Яковлевны Эфрон – с ней он очень считался, она была его режиссером. Казалось, время уже поменялось, Сталина не было, Берии не было, у власти был Хрущев, уже наступила «оттепель», но Дмитрий Николаевич никогда не говорил, что Елизавета Яковлевна была родной сестрой Сергея Эфрона, мужа Марины Цветаевой, и что с гениальным поэтом он был знаком. Уже спустя годы я узнал, что он бывал в Болшеве, был хорошо знаком с Сергеем Яковлевичем и читал Марине Цветаевой пушкинские стихи.
Журавлевым очень увлекались в те годы. Вспоминается любимый им Чехов: «Шуточка», «Тоска», «Красавица», «Муж» и абсолютный шедевр – «Дама с собачкой». «Шинель» Гоголя, «Певцы» Тургенева – все это он читал в концертах, собиравших полные залы.
Однажды, когда впервые была издана Цветаева, Валентина Павловна рассказала мне, что они были с ней знакомы и что она бывала у них дома, а Дмитрий Николаевич вспоминал, как она много курила и глаза ее горели странным блеском, но про Болшево – ни слова. Когда слава Цветаевой после первых публикаций стала расти как снежный ком, Журавли переживали: им казалось, что она принадлежит только избранному кругу.
Дмитрий Николаевич бывал у Ахматовой, преклонялся перед нею; всякий раз подробно рассказывал о своих визитах к Книппер-Чеховой – ее он очень любил, и то, что она была женой его любимого писателя, наполняло его гордостью и неутихающим восхищением. У них на кухне я помню Рихтера и Нину Дорлиак. Валентина Павловна дружила с Ниной Львовной, они были на «ты». Отчетливо помню вечер у них за столом, когда сидели Рихтер, его друг, Нина Львовна и приехавший из Ленинграда театральный критик Симон Дрейден. Я пришел из Большого театра (молодая и очень модная – к сожалению, недолгое время – балерина Елена Рябинкина с Леонидом Ждановым танцевали «Лебединое озеро»), а у Журавлевых, как всегда, много гостей. Обсуждали «Пять вечеров» Володина, спектакль театра-студии «Современник» (играли в помещении филиала МХАТа). Забежала – после «Идиота» с Гриценко и Борисовой – жившая с Журавлями в одном подъезде актриса Вахтанговского театра Ксения Ивановна Ясюнинская, неровная по характеру и острая на язык (в «Идиоте» она играла крохотную ролишку горничной Кати). Все вперемежку делились впечатлениями. Рихтер очень любил театр, его лицо, манера вести диалог, молчаливые взгляды, которыми он обменивался со своим другом, – все врезалось в память.
Меня тут же начали расспрашивать о Марии Ивановне Бабановой – сильнейшем увлечении моей жизни, я старался не пропускать ее спектаклей и к тому времени уже часто бывал у нее в доме. Ее отшельнический образ жизни, нелюбовь к «тусовке» и тень ее гениального актерского дара вызывали особый интерес.
Дмитрий Николаевич любил мои «показы» Марии Ивановны и мог бесконечно слушать рассказ, как я впервые увидел Бабанову. Мы с моим товарищем университетских лет Юрием Орловским (ныне профессором, доктором юридических наук) сбежали с занятий и, проходя мимо Московского театра драмы (так назывался тогда Театр имени Маяковского), увидели толпу в поисках лишнего билета. Шла «Таня» Арбузова. Мы решили, что это пьеса о Зое Космодемьянской, героине Великой Отечественной войны, достали у перекупщиков билеты на ярус и с любопытством начали смотреть на сцену. Появилась маленькая, немолодая женщина с неземным голосом. Сразу поняли, что это не Зоя Космодемьянская, а потом, в антракте, молчали и только горько плакали над судьбой маленькой Тани, не замечая ни возраста актрисы, ни того, что это старый спектакль (он шел уже десять лет). После конца аплодировать мы не могли, мне кажется, что больше никогда я в театре так безутешно не плакал. Спектакль был поставлен замечательным режиссером Лобановым.
Потом я еще много раз смотрел «Таню» и «Собаку на сене». У меня сохранилась программка: 27 сентября 1953 года, утром «Собака на сене», Диана – Бабанова, вечером – «Таня», Таня – Бабанова. Дублеров у нее было много. Диану играли Карпова и забытая сегодня актриса Матисова, а Таню – и Гердрих, и Карпова, и Галина Анисимова, но Бабанова оставляла всех в тени. Это была великая актриса.
В сотый раз повторенный при гостях Журавлевых рассказ о первой встрече с Бабановой на сцене был встречен дружелюбным смехом. Симон Давыдович Дрейден начал рассказывать, как Бабанова играла недавно в Ленинграде в маленьком театре пьесу Джеймса Барри «То, что знает каждая женщина». Ему казалось, что это не было абсолютной победой, он считал, что ей надо переходить на другие роли, восторгался ее Софьей в «Зыковых», Раневской в «Вишневом саде» (этот спектакль она играла очень мало). Потом заговорили о Пастернаке, и театральная тематика улетучилась…
Театральная Москва тех давних лет производила странное впечатление. Шло очень много плохих пьес. В Малом театре я сбежал в антракте с пьесы Погодина «Когда ломаются копья», не спасал даже Игорь Ильинский. Любил старую прекрасную артистку Малого театра Евдокию Дмитриевну Турчанинову, из-за нее пошел смотреть пьесу Софронова «Иначе жить нельзя». Состав великолепный: Менжинский, Владиславский, Штраух (он тогда еще не перешел в Театр имени Маяковского), – а смотреть было невозможно.
И рядом, в том же Малом театре, шел «Пигмалион» с Дарьей Зеркаловой. Это была блестящая актриса. Сегодня она почти забыта. В кино не снималась.
Москва обожала Зеркалову. Изощренное комедийное дарование и заразительное обаяние. Острый драматизм и великолепное владение формой. В Малый театр она пришла в 1938 году, ее роли: Евгения Гранде в одноименной инсценировке романа Бальзака, Глафира в «Волках и овцах», Королева в «Рюи Блазе» Гюго и миссис Эрлин в уайльдовском «Веере леди Уиндермир» – незабываемые создания одной из самых больших русских актрис. Элизу Дулитл Зеркалова играла дерзко и эксцентрично. В 1946 году она получила Сталинскую премию за эту роль. Она стала первой актрисой Малого театра, получившей Сталинскую премию, многие ей не могли этого простить. Но успех был столь велик, что, пока она не начала стареть, совладать с ее огромной славой было невозможно.
Потом пошли разговоры, что она не принадлежит школе Малого театра. Когда ей дали репетировать Кручинину в «Без вины виноватых» в очередь с Гоголевой, то Гоголева не пускала ее на репетиции, настолько она не выносила Зеркалову. Актриса играла все меньше и меньше: иногда Чебоксарову в «Бешеных деньгах», иногда мисс Кроули в «Ярмарке тщеславия». В «Эмилии Галотти» Лессинга ей поначалу играть не дали, но потом ввели на эпизодическую роль графини Орсины. Успех был небывалый. Сразу появилась статья в «Известиях»: «Двадцать минут на сцене».
Но борьба с Зеркаловой продолжалась. К концу жизни (она умерла в 1982 году) актриса уже была сломлена, заискивающе заглядывала в глаза руководству, старалась хоть что-нибудь получить, но играть ей не давали. Я видел ее в роли Сумасшедшей барыни в «Грозе». Она резко отличалась от всех остальных, но ее зрительский успех только раздражал других. Да и сегодня идешь по вестибюлю Малого театра – висят портреты умерших, имевших звание народных артистов СССР, Зеркаловой нет, она была народной артисткой РСФСР. В советские времена эта иерархия была очень важна. Казалось бы, теперь все переменилось, но нет. Смотрю, на стене висят портреты актеров Малого театра Велихова и Доронина, они тоже были народными артистами республики, но портрета Зеркаловой все равно нет. Она осталась чужой и после смерти, хотя те, кто ее помнит, прекрасно понимают, что по таланту мало кто мог сравниться с ней, мало кто владел столь изысканным мастерством и ослепительной театральностью.
Театр очень помогал мне, это было единственное, что меня интересовало. Ходил не только во МХАТ, не только на спектакли с Бабановой, очень любил Вахтанговский театр. В нем я застал еще Цецилию Львовну Мансурову, первую актрису театра, первую Принцессу Турандот. Я ее видел в американской пьесе «Глубокие корни». Острый рисунок, резкая самостоятельность и гордое сознание своей осуществленности. Она играла некую Алису Лэнгдон и с первой фразы «Где этот человек, за которого я собираюсь выйти замуж?» приковывала к себе внимание.
Шел «Егор Булычов и другие» Горького с Сергеем Лукьяновым в главной роли, и рядом – пустенькая комедия Михалкова «Раки», в ней филигранно работали Гриценко, Понсова, Осенев, Алексеева. Шли «Два веронца» Шекспира в переводе Левика, там я впервые увидел Юлию Борисову в роли Джулии. У нее еще не было никакого имени – оно зазвучало после спектакля «На золотом дне» Мамина-Сибиряка. Вахтанговцы ошеломляли Москву, играя «Шестой этаж» и «Мадемуазель Нитуш». Галина Пашкова, Осенев и Понсова в «Мадемуазель Нитуш» демонстрировали отточенную комедийную игру, насыщенную смыслом и театральным очарованием.
В эти годы я подружился с семьей Ираклия Андроникова, мы познакомились в доме Елизаветы Павловны Гердт, прекрасной в прошлом балерины, работавшей педагогом-репетитором в Большом театре, умной, обаятельной, не очень счастливой женщины, которую спасали юмор и воспитание. У нее в классе занималась Катя Андроникова. Катя была смешливой, с юмором, умненькой и доброй девочкой. Мне трудно поверить, что у нее двое взрослых детей и молодость уже прошла.
Ираклий Луарсабович в те годы имел огромный успех. Его творческие вечера, выступления по телевидению, книги принесли ему большую популярность. Это был человек фантастического обаяния. Я даже не мог предположить, что кто-то не любит Андроникова. Уже спустя годы, читая трехтомник Лидии Чуковской об Ахматовой, я узнал, сколько яда было у нее по адресу Ираклия Луарсабовича. Да, его любила власть, любил Лапин, хозяин телевидения, известность его была небывалой, но сила его таланта и мастерство устного рассказа – редкий дар – были неподражаемы.
Я очень любил его жену, Вивиан Абелевну, в доме ее звали Вива. В прошлом актриса, умная, очень гостеприимная, она умела принимать, умела согревать теплом и вела дом, красивый, шумный, полный людей, телефонных звонков, никогда ни о ком старалась не говорить дурно. Например, она очень не любила Бабанову, даже разговор о ней был ей неприятен (наверное, когда-то столкнулась с Марией Ивановной и обиды не забыла), но плохого не говорила о ней ничего, только давала мне понять, что разговор о Бабановой мучителен для нее. Я знал, что Бабанова из той породы людей, которую одни боготворят, другие не любят, только талант ее был вне сомнения. Вива это понимала, но признать ей было тяжело.
В доме Андрониковых все надломилось после смерти Мананы, старшей дочери, трагически погибшей. Манана была красива и очень трудолюбива, как и ее сестра Катя. В ранней молодости Манана работала редактором на телевидении в отделе кинопередач, потом ушла в Институт искусствознания, в те годы он назывался Институт истории искусств. Ее руководителем был знаменитый режиссер, один из самых образованных людей в мире кино, Сергей Юткевич. Она любила сидеть за письменным столом, работала ночами, бледнела от обиды или неосторожно сказанного слова, с болью выслушивала все критические замечания и все делала по-своему. У меня в библиотеке хранится ее последняя книга «Портрет. От наскальных рисунков до звукового фильма». Было время, когда мы дружили, потом жизнь развела в разные стороны.
Я встретил ее за неделю до кончины на улице Горького, мы давно не виделись. Манана была черная, словно с обугленным лицом. Мы остановились, и она очень мрачно поглядывала по сторонам, потом вдруг улыбнулась, лицо осветилось, и что-то прежнее мелькнуло в ней. Расстались мы легко и дружески, почти с нежностью. Через неделю после этого случилось несчастье.
Ираклий Луарсабович перенести смерть Мананы не смог, он был раздавлен, начал болеть и очень тяжело жил последние годы. Вива держалась. Чего это ей стоило, можно только догадаться. Мы с ней переговаривались по телефону, уже когда росли внуки, очаровательная Ира и маленький, проказливый Ираклий, дети Кати, Екатерины Ираклиевны, ныне работающей на телевизионном канале «Культура». Вивиан Абелевна теперь реже смеялась, никогда не говорила о своих болезнях и только все вспоминала и вспоминала Ираклия Луарсабовича, избегая разговора о Манане, – этого трогать было нельзя, слишком болело, хотя прошло уже немало лет. «Нельзя уйти от самой себя», – печально повторяла она. Мне казалось, что она высечена из камня, когда ей пришлось провожать Манану в последний путь. Вива была человеком твердой воли, крепких нервов, решительная и удивительно умеющая быть внимательной к людям и заботиться о них. Оказалось, что «сталь ржавела», но женская человеческая одаренность действовала безотказно. После смерти Вивиан Абелевны все изменилось, что-то исчезло навсегда. Забыть ее я не могу.







