
Виталий Тихонов
Полезное прошлое. История в сталинском СССР
УДК 930(091)(47+57)«193/195»
ББК 63.1(2)61
Т46

Редактор серии Д. Споров
Исследование подготовлено автором при поддержке Российского научного фонда, грант № 23-18-00303 по теме «Советский исторический нарратив: содержание, акторы и механизмы конструирования»
Виталий Тихонов
Полезное прошлое: История в сталинском СССР / Виталий Тихонов. – М.: Новое литературное обозрение, 2024. – (Серия «Что такое Россия»).
Контроль над прошлым в сталинское время был одним из важнейших способов манипуляции общественным сознанием и мобилизации масс. Используя исторические аллегории в качестве идеологического инструмента, пропаганда с их помощью объясняла зрителю или читателю текущую политическую ситуацию и создавала так называемое полезное прошлое – неисчерпаемый ресурс для поддержания власти вождя. Книга Виталия Тихонова исследует сложные отношения, которые установились между сталинским режимом и исторической наукой. Автор рассказывает о том, как Сталин читал исторические труды, воспринимал историю и вмешивался в производство научного знания, а также о роли исторических юбилеев и культе исторических героев в идеологии. Значительное внимание в работе уделено и профессиональным ученым, оказавшимся заложниками эпохи, – их месту и роли в исторической политике. Книга призвана ответить на вопросы, как была устроена эта своеобразная «историографическая вертикаль власти» и как идеологические кампании и дискуссии меняли концептуальный облик советской исторической науки. Виталий Тихонов – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, специалист по социальной истории науки, институциональной истории и истории исторической науки ХX века.
В оформлении обложки использован кадр из к/ф «Иван Грозный» (режиссер и автор сценария С. Эйзенштейн, операторы Э. Тиссе, А. Москвин), 1944 г.
ISBN 978-5-4448-2327-3
© В. Тихонов, 2024
© У. Агбан, иллюстрации, 2024
© Д. Черногаев, дизайн серии, 2024
© ООО «Новое литературное обозрение», 2024
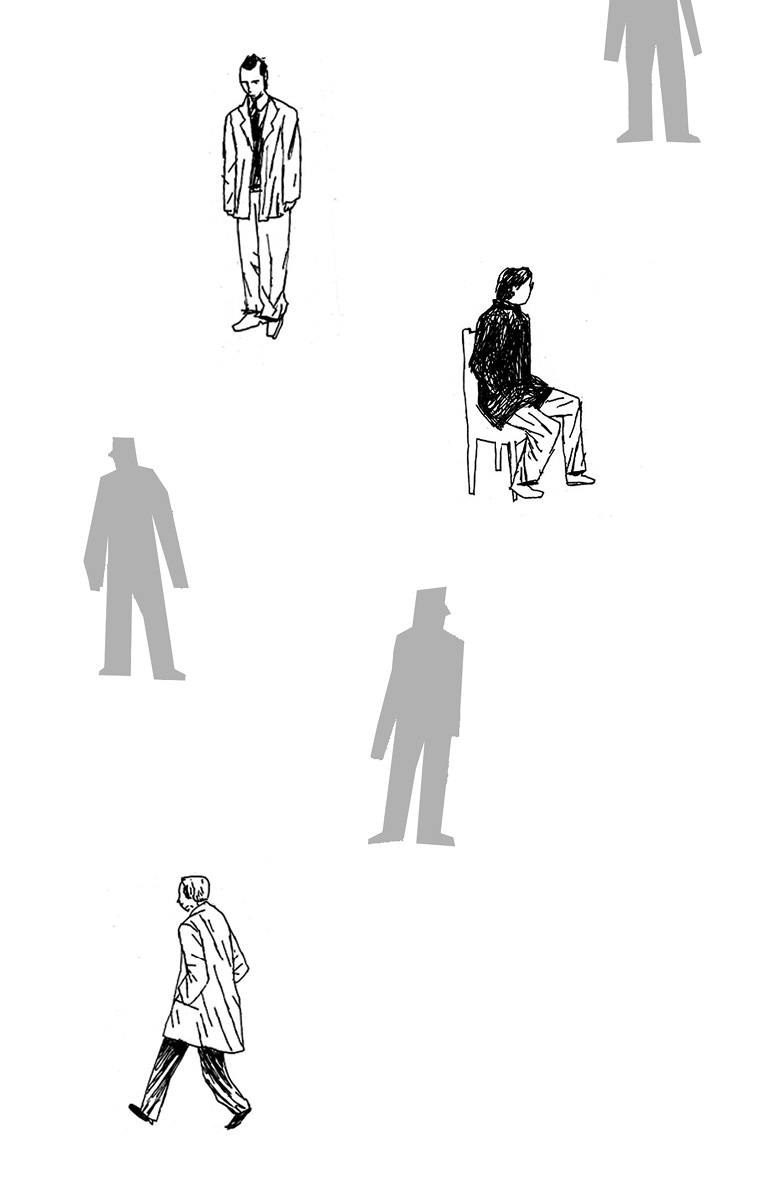
ВВЕДЕНИЕ
Сразу после смерти Сталина историк, доцент МГУ С. С. Дмитриев записал в своем дневнике: «Великая, гигантская эпоха это тридцатилетие: она всем наполнена, и больше всего Сталиным». Действительно, огромная страна прошла значимый исторический отрезок своего развития в тени вождя, чья личность наложила отпечаток на все сферы жизни. Разумеется, история не стала исключением. Когда мы говорим о сталинской эпохе, мы не можем игнорировать вопрос манипуляции историческим знанием, превратившемся в руках диктатора и его сподвижников в важный инструмент утверждения власти, управления общественным сознанием и мобилизации масс.
Как тут не вспомнить знаменитый лозунг из антиутопии Дж. Оруэлла «1984»: «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым». Знание о прошлом превратилось в культурную технологию управления, поэтому сталинизм – это еще и сталинская историческая идеология, то есть система образов прошлого, ставших идеологемами, усилия пропаганды по их внедрению и специфические механизмы утверждения нужных власти представлений о прошлом, необходимого в первую очередь для утверждения статуса самого Сталина. Историзация стала одним из основных идеологических методов сталинской пропаганды, а историческая аллегория – ее основным приемом. При помощи исторических образов зрителю или читателю объяснялась текущая политическая ситуация, а тот, в свою очередь, видел в образах Ивана Грозного, Петра Великого самого Сталина. Так создавалось «полезное прошлое», рассматривавшееся в качестве неисчерпаемого ресурса для идеологии и поддержания сталинского режима.
Разумеется, само понятие «полезное прошлое» советскими идеологами не использовалось. Его изобретателем считается американский литератор и историк культуры В. В. Брукс, который на излете Первой мировой войны призывал американцев создать собственное «полезное прошлое», «живительное» и способствующее процветанию Америки.
Таким образом, инструментализация истории (в данном случае я буду говорить не только об исторической науке, но и о массовой исторической культуре и политике памяти) не является признаком исключительно сталинского СССР или какого-то другого конкретного режима. Подобные элементы можно обнаружить в любой политической системе, даже вполне плюралистичной и демократической. Однако в СССР 1930–1940‐х годов в условиях монополии власти и почти полного отсутствия альтернативных источников информации историческая политика становилась весьма эффективной. Обращение к прошлому стало важной формой легитимации власти и ее достижений, реальных и мнимых.
Почему идеология сталинизма такое внимание уделяла прошлому? На этот вопрос есть ряд ответов. При жизни Сталина поворот в идеологии объясняли по-разному, в том числе и в зависимости от собственных политических позиций. Так, его главный оппонент Лев Троцкий писал о контрреволюционных процессах, «преданной революции» и бюрократизации в сталинском СССР, вылившихся в помпезные псевдоисторические формы культуры. Русский эмигрант Николай Тимашев, в 1946 году выпустивший книгу «Великое отступление», связывал этот процесс с националистическими симпатиями вождей партии, крахом к началу 1930‐х годов надежд на мировую революцию и появлением нацистской угрозы.
В знаменитой книге культуролога Владимира Паперного «Культура Два» это объясняется глобальным движением социально-культурных структур советского общества, переходом от ориентированной на будущее «культуры 1» (авангард 1920-х) к консервативной «культуре 2» 1930‐х годов, обращенной в мифологизированное и монументальное прошлое. Безусловно, такой подход хорошо фиксирует сам процесс и некие фундаментальные закономерности развития отечественной культуры, но плохо отражает конкретные исторические механизмы, приведшие к такому результату.
Американский историк Дэвид Бранденбергер рассматривает сталинскую политику памяти как конструирование сложных, идеологически перегруженных нарративов, сочетающих образы дореволюционного прошлого, революционные символы и лозунги, а в центре всего помещающих фигуру самого Сталина. Бранденбергер использует понятие «полезного прошлого», указывая на утилитарность сталинской идеологии. Российский историк Александр Дубровский также подчеркивает прагматический характер обращения идеологов к исторической тематике. Андрей Юрганов писал о своеобразной метафизике сталинизма в культуре и общественных науках. Сутью этого явления стал механизм идеологического манипулирования и контроля, заключающийся в том, что только Сталин в конечном счете определял соответствие «истине».
Все сходятся в одном: историческая наука стала заложником идеологии и ее служанкой. Значит ли это, что историки и литераторы просто выполняли идеологический заказ? Ответ будет утвердительным, но требующим множества оговорок. Во-первых, идеология власти трансформировалась под давлением обстоятельств, что создавало довольно запутанную ситуацию, когда одни установки наслаивались на другие. Многие официальные положения противоречили друг другу, что позволяло использовать эти противоречия в исторических дискуссиях. Во-вторых, власть часто сама не имела четкого представления о требуемом конечном результате. Отсюда многочисленные более или менее открытые дискуссии, обсуждения вопросов, в том числе приглашения ученых и деятелей культуры в ЦК. Идеологи напоминали купцов на ярмарке, которые ходили по рядам и выбирали из предлагаемых им товаров тот, который придется по душе. Разумеется, будучи единственными покупателями, они определяли то, какой вид товара им нужен, каковы параметры его качества и стилистика. Историки и деятели культуры оказывались пусть и в подчиненном положении, но обладали определенной свободой действия и творческого маневра. При этом могло случиться и так, что отвергнутый аппаратом ЦК товар приглянется самому Сталину. В-третьих, многими сферами науки идеология просто не интересовалась, они не считались актуальными.
В целом советская система подтвердила тот простой факт, что в условиях концентрации власти и ресурсов в руках государства, партии или конкретного человека говорить о плюрализме уже невозможно. В унифицированной системе ученые волей-неволей становятся слугами режима. Известный советский историк А. А. Зимин, лучшие годы которого пришлись на более спокойное и свободное послесталинское время, признавал:
Ученые нуждаются в… средствах познания (деньги, лаборатории, пресса и т. д.), которые делают их слугами государства, держащего в своих руках распределение материальных благ… писать работу, как правило, у них означает писать работу, чтоб она ими же была издана. В целом это так – жизнь есть жизнь. История – профессия, она кормит и поит. Но такой утилитарный подход имеет серьезную опасность. Автор привыкает к требованиям издателя, начинает продавать не только рукопись, но и вдохновение. У него вырабатывается самоцензура, ослиная шкура, которая прирастает к его телу.
Когда мы говорим о производстве исторического знания (воспользуюсь этим не очень лирическим термином, хорошо отражающим индустриальный характер эпохи и ее идеалы), следует иметь в виду, что здесь выстроилась сложная властная пирамида. Во главе ее находился, разумеется, Сталин. Именно он обладал «абсолютным» знанием, определяя то, что является истиной или «фальсификацией истории». Именно высказывания вождя и его тексты оказывались теми кирпичами, на которых строилась историческая политика в СССР. Важно, что Сталин мог интерпретировать и тексты классиков марксизма. От его интерпретаций зависела актуализация тех или иных высказываний и их контекст. Объявив себя верным ленинцем, он никогда публично не оспаривал высказывания своего учителя, но вот Ф. Энгельсу повезло меньше, и его представления о России подвергались публичной критике. Сталин, с одной стороны, был догматичен, но, с другой, умел приспосабливать революционные теории и наследие классиков марксизма к актуальным потребностям той системы власти, которую он во многом создал и олицетворял.
Особую роль в руководстве «историческим фронтом» играли «сталинские указания». На деле они часто звучали туманно, но всегда были «исчерпывающими». Один из руководителей советской исторической науки Анна Панкратова писала: «Без знания этих указаний не может обойтись ни один историк, какой бы эпохой и какими бы конкретными вопросами он ни занимался». Имея мифические «исчерпывающие» указания, историки тем не менее совершали ошибки. Объяснялось это только тем, что они либо что-то не поняли, либо сознательно проигнорировали. Последнее уже квалифицировалось как саботаж и вредительство. «Сталинские указания» были сродни приказам гениального полководца, ведущего свои войска от победы к победе: «Сталинские указания, касавшиеся как общеметодологических проблем, так и отдельных конкретных вопросов истории, стали основой решительного перелома на фронте исторической науки».
Значительный интерес представляет и язык Сталина, воплощенный в том числе в главных для историков директивных текстах и выступлениях. В семиотике, науке о знаковых системах, принято выделять естественный и искусственный языки. Искусственный язык разрабатывается учеными специально для того, чтобы сформировать универсальные непротиворечивые термины, понятия и категории, исключающие или минимизирующие двоякое толкование. Сталин всегда предпочитал естественный язык, подразумевающий различные интерпретации и восприятия. Он любил пошутить, съехидничать, но так, чтобы после этого объекту шутки стало не по себе. Этим частично можно объяснить и особую любовь диктатора к истории, где терминология значительно проще и неопределеннее по сравнению даже с другими гуманитарными дисциплинами. Помимо того, что самого Сталина можно обвинить в недостаточной образованности (его образование не носило систематического характера, хотя он и занимался интенсивно самообразованием), популизме, эта любовь объясняется и тем, что в естественном языке проще подстраивать смыслы под собственный дискурс, трансформировать их, в нужный момент показывая, что имелось в виду совсем не то, что усвоили слушатели или читатели. Такая позиция позволяла играть роль единственного интерпретатора.
Сталинское вмешательство в производство исторического знания хоть и носило регулярный характер, все же было ситуативным. Некоторые указания противоречили друг другу, особенно если их сравнивать на длительном временном отрезке. А главное – Сталин не мог дать указания абсолютно по всем вопросам, поэтому представления о тотальном контроле над историей являются сильным преувеличением. Оставалось много концептуальных и фактографических «пустот», на которые не пал взор генерального секретаря. С одной стороны, это создавало ситуацию неопределенности для историков («Что писать?!»), но с другой – оставляло пространство для относительно самостоятельного исследования.
Однако не Сталиным единым определялось развитие исторического знания. Самые влиятельные партийно-государственные деятели также могли вмешиваться в процесс. Более того, Сталин предпочитал, особенно в 1930‐е годы, представлять свою позицию как коллективное решение партии.
В СССР середины XX века ведущие ученые воплощали компромисс между наукой и властью. Сформировалась система (правда, ее зачатки можно обнаружить еще в дореволюционное время), в которой в каждом направлении исследований существовал один лидер, «генерал от науки». В исторической науке было несколько центров притяжения: Б. Д. Греков, И. И. Минц, В. В. Струве, А. М. Панкратова и т. д. Фактически это являлось проекцией на науку однопартийной советской политической системы. Лидеры выполняли ряд важнейших функций. Во-первых, контролирующую, поскольку их задачей было следить за состоянием вверенного им участка «исторического фронта». Во-вторых, они оказывались связующим звеном между партийными органами и сообществом ученых.
Ниже находились рядовые историки, не обремененные административными должностями. Именно на долю этих «рядовых исторического фронта» выпадало решение основных задач. Среда советских историков 1920–1940‐х годов была неоднородна. Одной ее частью были так называемые историки «старой школы», то есть ученые, окончившие еще дореволюционные университеты и сделавшие себе имя в науке еще до «эпохи исторического материализма». Их рассматривали как «старых специалистов» («спецов»), обладавших лоском европейской науки и культуры, необходимых большевикам на первых этапах становления нового общества, его науки и образования. Их оппонентами являлись так называемые историки-марксисты, то есть те, кто открыто манифестировал свою приверженность марксизму в его правильном, большевистском понимании (что бы это ни значило в каждый конкретный момент). Как правило, это были представители уже молодого поколения, члены партии, которые, согласно большевистской идеологии, должны были совмещать науку и практическую деятельность по реализации политики партии, причем в разных направлениях, вплоть до сельского хозяйства.
Властная пирамида не работала как часы. Сигналы, идущие сверху, из‐за их неопределенности и отрывочности специфически преломлялись в нижних ярусах, порождая дискуссии об их содержании и области применения. Власти, что вообще было типично для той эпохи, предпочитали давать только общие указания, оставляя свободу решения многочисленных конкретных вопросов непосредственным исполнителям.
Едва ли не главным инструментом утверждения «правильного» взгляда на историю являлись идеологические кампании. Под этим понимается интенсивная серия мероприятий власти, нацеленных на утверждение нужных идеологических постулатов. На протяжении всех 1920-х – начала 1950‐х годов масштабные идеологические кампании являлись частью обыденной жизни.
Предлагаемая книга не только об исторической идеологии сталинизма, но и о людях, которые ее творили или были вовлечены в этот процесс: о самом Сталине, его сподвижниках, писателях, кинорежиссерах и собственно историках.
Эту книгу я посвящаю своим дочкам – Марине и Алисе – с надеждой, что прошлое никогда не отнимет у них будущего.

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ В 1920–1940‐Е ГОДЫ
Российская историческая наука второй половины XIX – начала XX века находилась в расцвете. Это был ее настоящий золотой век. Помимо значимых достижений в области изучения отечественной истории, российским историкам было что продемонстрировать своим европейским коллегам практически во всех областях: антиковедении, медиевистике и новистике. Коньком русских считалась аграрная история, что неудивительно, учитывая особую злободневность крестьянского вопроса в Российской империи на протяжении всего XIX века. Перечислить всех выдающихся историков того времени не представляется возможным. Однако можно вспомнить Николая Кареева, чьи исследования аграрных проблем Великой французской революции особо отметил Карл Маркс; Павла Виноградова, специалиста по английской истории, который из‐за конфликта с университетским руководством уехал в Великобританию, где возглавил кафедру в Оксфордском университете; Михаила Ростовцева, исследователя Античности, который из‐за неприятия большевиков оказался в эмиграции в США и стал там председателем Американской ассоциации антиковедов. Динамично развивались востоковедение и археология.
Вторая половина XIX – начало XX века – это время национальной идеи, при том, что почти все государства того времени были скорее многонациональными. Поэтому особую роль играли специалисты по российской истории. Во многом это было время ставших классиками еще при жизни профессоров Московского университета Сергея Михайловича Соловьева и Василия Осиповича Ключевского, оставивших после себя плеяду учеников. В Санкт-Петербурге к концу XIX века взошла звезда Сергея Федоровича Платонова, главного специалиста по истории Смутного времени.
У исторического знания того времени была одна важная черта: оно было окрашено в национально-государственные краски. Историки воспринимали прошлое через призму идеи нации-государства и его интересов. Этот национальный взгляд быстро перерастал в национализм и милитаризм, что наглядно продемонстрировала Первая мировая война.
Для Российской империи официальной версией истории оставалась династическая. Царствующий дом стремился продемонстрировать свою историческую легитимность, неразрывность династии Романовых и ее неразрывную связь с собственно историей страны. В начале XX века, в ситуации, когда стремительный прогресс все больше ставил под сомнение незыблемость старых, в том числе политических, устоев, империю буквально захлестнула волна юбилеемании. Крупнейшими торжествами стали 100-летие войны 1812 года (1912) и 300-летие дома Романовых (1913). Чувствуя шаткость своего положения под напором демократизации и национализмов, царствующий дом стремился при помощи исторических образов повысить градус политической лояльности своих подданных.
Взаимодействие между действующей властью и учеными было неоднозначным. С одной стороны, бюрократы постоянно нарушали главную ценность университетской среды – ее автономию. Преподаватели высшей школы и члены Императорской академии наук, по сути, рассматривались ими как государственные служащие. Борьба за гарантии автономии от власти – важнейшая черта истории российских университетов. С другой – финансирование университетов и научных проектов во многом зависело от политической лояльности.
Важной альтернативой национальным историографиям становился марксизм, предлагавший изучение развития общества как процесса классовой борьбы и смены социально-экономических формаций. Молодое поколение историков в значительной степени было готово к восприятию марксистской методологии. Поэтому методологические перемены в исторической науке 1920‐х годов стали не столь болезненными, как это может казаться. Правда, что тоже важно, восприятие марксизма дореволюционным поколением существенно отличалось от того, что будет насаждаться в советское время. Не стоит забывать и о том, что многие черты российского позитивизма, например внимание к социально-экономической стороне исторического процесса, позволяли историкам «старой школы» находить точки соприкосновения с марксизмом.
Февральская революция стала неожиданностью, а Октябрьская – шоком. В своем знаменитом дневнике времен революции и Гражданской войны ученик В. О. Ключевского Юрий Владимирович Готье сыпал проклятиями в адрес большевиков-«горилл» и обвинял во всех бедах евреев (которых среди революционеров действительно было немало). Многие историки того времени, как и общество в целом, были заражены бациллами антисемитизма. Будучи плотью и кровью национально-государственной идеи, они восхищались великодержавием России (конечно, при критическом осмыслении ее состояния), и им тяжело было видеть крах империи и торжество «плебса». Даже демократически настроенные ученые, которых также было предостаточно, совсем иначе представляли себе будущее после свержения царизма. Вместо демократической державы-империи они увидели пролетарскую диктатуру, а скорее – просто анархию. Русским историкам больно было смотреть, как Гражданская война терзает их Родину.
Большевики, придя к власти, быстро занялись проблемами науки и образования. В этом они видели не столько гуманитарную функцию, сколько важный инструмент утверждения новой власти и построения нового, социалистического, общества. Согласно марксистским представлениям, знание всегда имеет классовый оттенок, а господствующие классы, обладая властью, способны навязывать свою идеологию угнетенным массам. Чем и занималась, по мнению большевиков, старая историческая наука, которую они рассматривали как форму пропаганды царизма, империализма и буржуазии. Новому, пролетарскому, обществу нужна была новая историческая наука.
Профессиональным историком в рядах РСДРП(б) (вступил в партию в 1905 году, но часто примыкал к различным фракциям) считался Михаил Николаевич Покровский. Будучи учеником В. О. Ключевского и П. Г. Виноградова, еще до революции он имел публикации, в том числе являлся автором или соавтором многотомных «Очерков русской истории с древнейших времен» (1910–1912) и «Очерков истории русской культуры» (1915–1918). До Октябрьской революции он уже обладал известностью в научных кругах. Причем если российские университетские и академические небожители, стоявшие на консервативных или либерально-консервативных позициях, отрицательно и свысока относились к его штудиям, то более либеральная и левацки настроенная часть историков, занимавшая должности приват-доцентов (то есть внештатных сотрудников), воспринимала их с интересом. Одновременно М. Н. Покровский много публиковался в популярных журналах и энциклопедиях. В годы Первой мировой войны он солидаризировался с позицией В. И. Ленина о необходимости перерастания войны империалистической в войну против правительств воюющих стран, что обеспечило ему прочное место в большевистской партии.
После Октябрьской революции его карьера резко пошла вверх. Он стал важным руководителем науки и образования в Советской России: заместителем наркома просвещения РСФСР (1918–1932), председателем президиума Социалистической (Коммунистической) академии, ректором Института красной профессуры, председателем Общества историков-марксистов, заведующим Центрархивом РСФСР и СССР. Разумеется, именно ему было уготовано место главного историка страны. Стержнем его исторической концепции стала теория торгового капитализма, которому противостоял промышленный (производительный) капитал. Согласно его теории, многое в русской истории с древнейших времен объяснялось интересами торгового капитализма. С точки зрения Покровского, на протяжении большей части русской истории государство обслуживало интересы торгового капитализма: «В мономаховой шапке ходил по русской земле именно торговый капитал, для которого помещики и дворянство были только агентами, были его аппаратом». В качестве популярного пособия по истории он опубликовал «Русскую историю в самом сжатом очерке» (1920–1923), одобренную самим В. И. Лениным.
Пожалуй, главной задачей исторических трудов М. Н. Покровского стало разоблачение монархической и буржуазной историографии. Русских монархов он рисовал людьми недалекими и полностью лишенными исторической субъектности. Так, о Петре I, одном из ключевых героев-символов дома Романовых, он беспардонно писал:
Царь умер от последствий сифилиса, полученного в Голландии и плохо вылеченного тогдашними медиками. При гомерическом пьянстве петровского двора и лучшие врачи, впрочем, едва ли сумели бы помочь.
С нескрываемым удовольствием разрушал он и миф об особой, цивилизующей роли Российской империи на национальных окраинах, подчеркивая колониальный характер территориальных захватов на Кавказе, в Сибири и Средней Азии. Согласно Покровскому, русская буржуазия и помещики пытались решить свои экономические проблемы через эксплуатацию этих территорий. Великодержавие империи также ставилось им под сомнение. Оценивая общий итог экономического развития России, историк приходил к выводу, что, несмотря на отдельные достижения, русская экономика носила «полуколониальный» характер, служа поставщиком сырья и рынком сбыта для ведущих западных держав.
Старая академическая элита оценивала нового классика крайне негативно. С. Ф. Платонов за глаза называл его «гнусом», а однокашники по Московскому университету говорили о нем как о «позоре московской исторической школы», но вынуждены были сотрудничать со всесильным «комиссаром образования и науки».
Революция и Гражданская война тяжело сказались на академическом корпусе: профессура резко обеднела, несколько известных ученых, в том числе историков, скончались от голода и болезней. Немало ученых эмигрировало. Большевики смотрели на старую профессуру как на своих потенциальных противников. Та, в свою очередь, не была склонна принимать новую власть, которую винила ни много ни мало в конце российской науки и культуры. Новая власть тоже не собиралась мириться со своими антагонистами, о чем свидетельствуют знаменитые «философские пароходы» 1922 года. Сильным ударом по научно-исторической среде дореволюционной России стало закрытие историко-филологических факультетов.
Однако немало было и точек соприкосновения. Ученые продолжали следовать этосу служения государству, обществу и культуре, то есть видели себя в качестве хранителей знания в условиях апокалипсиса. Многие думали, что большевики долго не продержатся. В свою очередь, новые власти не могли сразу отказаться от «старых спецов» и готовы были работать со всеми, кто проявит хотя бы видимую лояльность, которая, в свою очередь, покупалась просто: в условиях разрухи новая власть становилась единственным источником дохода и пропитания.
Большевики смотрели на науку в том числе и как на витрину нового строя. Так, они использовали 200-летний юбилей Академии наук в 1925 году для того, чтобы продемонстрировать всему миру, что наука в СССР не разрушена и даже процветает, более того – молодое Советское государство стремится строить новое общество на научных основах. На юбилей были приглашены иностранные гости, а мероприятия широко освещались в прессе. В июле 1928 года в Берлине была проведена неделя советских историков и выставка «Историческая наука в Советской России 1917–1927 гг.». На ней советская власть стремилась показать терпимость к инакомыслию и, в частности, к «историкам старой школы».
Эпоху нэпа можно рассматривать как время относительной свободы. В научной среде, пусть с напряжением, сосуществовали историки «старой школы» и «историки-марксисты». В ситуации, когда исторические факультеты оказались закрыты, историки «старой школы» нашли себе место в Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН) и Государственной академии истории материальной культуры (ГАИМК), где наравне с историками-марксистами вели научные исследования и воспитывали молодежь. Кстати, именно тогда возник своеобразный феномен, когда молодые историки, в духе эпохи считавшие себя марксистами или внимательно изучавшие марксизм, учились технике научного анализа у представителей дореволюционной академической традиции. Начинающие историки старались совмещать марксистскую парадигму и тщательность анализа источников.
Несмотря на неприятие новых властей большинством историков «старой школы» и, в свою очередь, настороженное отношение к ним со стороны советской элиты, сотрудничество с властями шло довольно активно. Здесь представляется необходимым сделать некоторое отступление для лучшего понимания феномена этого сотрудничества. Дело в том, что еще в дореволюционную эпоху сложились своеобразные механизмы взаимоотношений историков и царской власти. С одной стороны, либеральные убеждения большинства профессуры не позволяли ей превратиться в простых чиновников на службе государства, но с другой – материальная зависимость от властей приучала к умеренному конформизму. Консервативно настроенная часть историков (например, М. К. Любавский, М. М. Богословский, С. Ф. Платонов и др.) благодаря своей лояльности царскому режиму занимала до революции высшие административные посты, проходя таким образом бюрократичную школу компромиссов. Такая привычка приспосабливаться сыграла свою роль и после краха империи.
Еще одним направлением, в котором сотрудничество власти и профессиональных историков оказалось весьма продуктивным, стало краеведческое движение. В 1920‐е годы краеведческие исследования приобрели небывалый размах, эти годы стали «золотым десятилетием» данного направления научного и общественного движения. Причин тому было немало: демократизация социальной структуры, осознание массами в ходе революций и Гражданской войны своей исторической роли, рост массового образования и т. д. Ломка дореволюционной академической системы заставила профессиональных историков искать реализации своих научных интересов в рамках локальных исследований. В 1920‐е годы краеведов активно поддерживали большевики. В следующем десятилетии, взяв курс на централизацию социально-политической и интеллектуальной жизни, власти свернут широко раскинувшуюся сеть краеведческих организаций и кружков, поскольку увидят в этом движении признаки сепаратизма.
Зримым достижением первого десятилетия советской науки стала институциональная перестройка. Дореволюционная наука в основном была сосредоточена в университетах, что имело определенные плюсы: казалось, что это обеспечивает симбиоз науки и преподавания. Но были также и очевидные минусы. Зачастую научно-исследовательская деятельность оказывалась на периферии из‐за высоких преподавательских нагрузок. Еще в начале XX века в России постепенно формируются исследовательские институты, в которых научные изыскания представляли собой центральный вид деятельности, а сотрудники освобождались от педагогической нагрузки. После Октябрьской революции именно на такую форму и была сделана ставка. Это позволило успешнее реализовывать именно научные задачи, превратив исследовательские институты в центральное звено производства научного знания в СССР.




