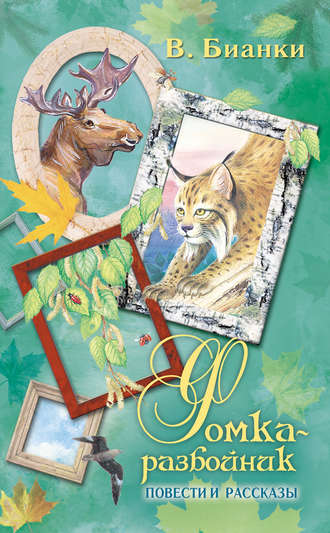
Виталий Бианки
Фомка-разбойник (cборник)
Над землей
Автомобиль мчал нас за город – на аэродром. Покачиваясь на мягком сиденье, мы молчали. И мне и моему спутнику первый раз в жизни предстояло подняться на воздух, – и каждый из нас был погружен в свои мысли.
Я думал: «…Мчаться по воздуху, чтобы дух захватило! Чтобы небо крутилось и земля убегала назад. Чтобы все неподвижное ожило, леса сорвались и горы сдвинулись с мест. Какое высокое наслаждение – летать! И видеть с высоты как на ладошке все, что бегает, ползает, копошится на земле… Все сразу видеть…»
Торжественное настроение охватило меня. И я, обращаясь к своему спутнику – к человеку, который сейчас разделит со мной радость первого полета над родной землей, – проникновенным голосом сказал:
– Профессор, дорогой Виктор Степанович, о чем вы думаете в эти минуты?
Профессор мотнул бородкой, поднял на меня задумчивые глаза.
– Я думаю, – сказал он медленно, – о песьей масти.
– Как? – переспросил я, ничего не поняв от неожиданности.
– О собачьей масти, – повторил Виктор Степанович. – Здесь, в Челябинской области, великолепная охота на уток и гусей. Вот я и думаю: какая собачья масть лучше всего подойдет для этой охоты? Вы как считаете? А?
– Зеленая! – буркнул я сердито. Вся торжественность минуты мигом испарилась от такого вопроса.
Профессор даже не улыбнулся.
– Зеленая, конечно, была бы идеальной, – согласился он все так же задумчиво. – «Защитный» цвет – под траву, камыши. Вот и горе, что до сих пор не вывели зеленых собак.
– Так возьмите да выкрасьте, – злился я.
– Постойте, вы серьезно мне скажите. Я думаю, бурая или кофейная. Под цвет земли. А? Как вы полагаете?
Я вздохнул: раз уж профессор всерьез задался каким-нибудь вопросом, ни о чем другом с ним не поговоришь.
– Кофейной масти мой Джим, – уныло ответил я. – А теперь я завел себе Боя в пегой рубашке: большие черные заплаты на белом да еще желтые пятна на морде и лапах. И могу вас заверить. Кофейного Джима утка издали замечает, а пегого Боя – нет.
– Ну, ну, ну! – замахал рукой профессор. – Простите, но ведь это же абсурд! Белые пятна на черном! На фоне зеленой, желтой травы и листвы, на бурой земле – всюду белый цвет самый броский. Не станете же вы на утиные засидки надевать белый балахон?
– Это другое дело.
– Нет, позвольте: почему же другое? Речь идет о наиболее незаметной окраске. Посмотрите, птицы: гуси – серые, утки – серые.
– А нырок-гоголь? Он черный с белым. А сорока-белобока?
– Что ж, исключения только подтверждают правило. Давайте рассуждать логически. Мое положение: чтобы собака не была издали заметна птице, надо, чтобы ее масть подходила под цвет окружающей обстановки. Белый и черный цвет всего заметней на фоне зелени и земли. Теперь ваши доказательства. Ну-с?
Я был приперт к стене. На основании опыта я был уверен в своей правоте, но доказательств у меня не было никаких. Почему, правда, птицы издали не замечают моего Боя?
И я очень обрадовался, что как раз тут шофер остановил машину и объявил: «Приехали!»
«Ну, теперь будет не до спора, – облегченно подумал я, – забудется».
Мы вышли из автомобиля.
Среди грязноватого от осенних дождей поля – маяк: простой деревянный барак с флагом. Невдалеке от него стоят три маленьких самолета в чехлах.
Летчик встретил нас у крыльца барака. Он еще совсем молодой, высокий, красивый. И с такими спокойно-внимательными глазами, что – скинь он форму, – я, наверно, бы принял его за врача.
– Полуянов, – отрекомендовался он, по очереди подавая нам свою громадную руку. – В первый раз летите?
И он объяснил нам правила поведения воздушных пассажиров.
Механик с рабочим возились около среднего самолета, сняли с него чехол, проверили работу мотора.
Я подошел к аппарату.
Небольшая деревянная рыбина с крыльями непрочностью своей напомнила мне змея, что клеили мы в детстве из лучины, перетягивали тонкими веревочками. Казалось, сядешь в эту легкую построечку, – она затрещит по всем швам.
На теле деревянной рыбины чернели крупные буквы:
СССР А-534.
И ближе к хвосту, помельче:
Вес конструкции 687–703 кг.
Вес в полете – 1034 кг.
«Вот именно – конструкция, – думал я, глядя на непрочную построечку воздушной машины. – На «конструкции» и полетим».
Это был маленький двухместный открытый биплан со стосильным мотором. В теле «рыбины» между местами пилота и задним прилажено еще одно сиденье – для второго пассажира.
Подошел Полуянов с Виктором Степановичем – оба в шлемах и очках. Летчик дал мне ваты, предложил заложить в уши. Надел на меня автомобильные очки и шлем.
Вслед за Виктором Степановичем я взошел по крылу и, перекинув ноги через борт, опустился на мягкое сиденье. Механик застегнул у меня на животе широкий пояс – привязал к сиденью.
Над бортом теперь осталась только моя голова да плечи. Перед носом торчал круглый затылок Виктора Степановича в шлеме. На переднем сиденье усаживался Полуянов. Он повернул к нам свое большое улыбающееся лицо, и я услыхал сквозь шлем и вату:
– Тут у меня зеркальце, я буду вас видеть. Если вам станет нехорошо…
Он спустился на свое сиденье. Механик, стоя сбоку, взялся рукой за неподвижный пропеллер.
– Внимание!
– Есть внимание! – неторопливо отозвался голос летчика.
– Контакт!
– Есть контакт!
И механик крутнул пропеллер; мотор загудел. Сердце екнуло… Вот он, торжественный момент: сейчас самолет оторвется от земного шара – и я помчусь по воздуху.
Легкая «конструкция» поскакала по полю, потряхивая нас на каждой кочке. Побежали мимо бараки, березовая рощица.
«Вот неудача! Еще опрокинется…» – и я глянул вдоль крыла.
Там, глубоко под нами, виднелся крошечный барак и смешно торчали голыми прутиками березы облетевшей рощицы: самолет, оказывается, давно уже снялся с земли и, разворачиваясь на левое крыло, набирал высоту.
Летчик предупреждал: «Когда самолет развертывается, не смотрите в сторону опустившегося крыла: может закружиться голова».
Но я смотрел – и не мог оторвать глаз от быстро убегавшей земли. Удаляясь, земля крутилась, крутилась, в поле зрения вместо степи подворачивался широко раскинувший свои постройки город. Сладко замирало сердце. Но голова ничуть не кружилась.
Всем телом я чувствовал наклон на левую сторону. Хотелось вытянуть правую руку, выправить крен. Но ветер ревел сбоку, между мной и его стихийной силой не было ничего, никакой перегородки, кроме непрочной стенки «конструкции». Я скорей почувствовал, чем подумал: сунешь руку за борт, – ее переломит в локте, как спичку, и умчит ветром…
Я поглядел вправо. Правое крыло уходило прямо в голубое небо. Небо было безоблачно и неподвижно.
Крыло опустилось: самолет выровнялся и стал прямо.
Гудел ветер, ровно стучал мотор.
Меня охватило чувство горделивого восторга: вот я сижу в мягком кресле высоко в воздухе, смотрю на мир и ничего не боюсь.
…Ой – из-под меня будто выдернули сиденье, сердце ухнуло; всем телом я почувствовал, что подо мной пустота. Недоуменный страх.
Но в следующий миг все прошло: упругое сиденье опять подвернулось под меня.
В зеркальце с доброй улыбкой глядело на меня внимательное лицо летчика. По движению его губ – голоса не было слышно за ревом ветра и мотора – я понял: воздушная яма.
Самолет провалился в нее, но сейчас же опять выровнялся.
Я глянул вниз и с удивлением заметил, что мы уже над городом.
Летчик простым, но, кажется, таким величественным жестом показал вниз. Я кивнул головой: дескать, вижу и понимаю.
Потом оказалось, что ничего-то я не понял: думал, он на город показывает, а он указывал нам крышу дома, где мы жили. Но все равно мне бы ее не увидеть: непривычный глаз терялся в этой массе серых квадратиков на карте незнакомого города. С трудом я разбирался в нем и только в самых общих чертах. Вот река, спичечка-мост через нее. Вот уйма деревянных домишек в середке и большие железокаменные новые постройки на окраинах: громадный тракторный завод.
Мы летели над Челябинском – городом заводов.
Я сказал «летели». Но это было только знание: ощущение было другое. Если б я не знал, ни за что бы не подумал, что лечу. Казалось, легкая «конструкция» висит между небом и землей, «свободно взвешенная в воздухе», как принято выражаться в физике. Я нисколько не чувствовал быстроты ее движения.
Когда мчишься на лошади, в поезде, в автомобиле, навстречу тебе летят деревья, телеграфные столбы, постройки, подворачивается под ноги земля. Быстротой передвижения окружающих предметов и измеряешь скорость своего движения.
Здесь ничего не летело навстречу. Пустая вселенная, казалось, навеки застыла в неподвижности, прикрытая голубым колпаком. Плоским блином лежит внизу земля. Громадный горизонт (потом я узнал, что мы находились на высоте полутора тысяч метров). Земля кажется дном высохшего моря. Кой-где на ней поблескивают лужицы – это озера. На западе виден берег: длинная узкая полоса – Уральский хребет. И только если внимательно присмотреться, замечаешь, что медленно движется, поворачивается под тобой эта живая карта земли.
Тоненький серебряный прутик лежит через город, – я не сразу понял, что это рельсы железной дороги. А та длинная, плюющая дымом коробочка на нем – поезд. И как странно: он медленно, медленно движется назад от города к Уралу.
Это был скорый Москва – Иркутск! Он мчится со скоростью сорока километров в час – от Урала к городу! (Я потом узнал, что наш самолет летел со скоростью ста десяти километров в час.)
Смотрю, – а мы уже висим не над городом, – над круглыми и продолговатыми лужами.
Это знакомые озера: не раз я ездил на них из Челябинска – охотиться на уток. Какими же крохотными они кажутся отсюда! И самое удивительное: блестящая вода в них как будто навеки застыла – бороздками, как грязь. Это волны. Но их движения не видно. А ведь сегодня сильный ветер, и если б я плыл по озеру в лодке, меня бы качали, толкали и гнали эти самые волны.
«Как странно, как странно! – думалось мне. – Только скорость, только страшная скорость «конструкции» держит нас в воздухе. Стань на мгновенье самолет – и мы скользнули бы вниз, нас разом притянула бы Земля. И вот я мчусь по воздуху, а быстроты этой, скорости передвижения в пространстве, совсем, совсем не чувствую…»
И я стал вслушиваться в стук мотора: ведь от него, от этой машины в сотню лошадиных сил, зависит сейчас наша жизнь. Откажет мотор, тогда…
И в тот же миг послышались перебои, стук стал реже, реже, раздались громкие выхлопы, как выстрелы. И мотор замолчал. Я почувствовал: мы падаем вниз. Конец?..
Я взглянул в зеркальце летчика. Серьезные, внимательные глаза глядели на меня оттуда. Я услышал сквозь вой ветра:
– Вам не холодно?
Ух, черт! А я-то думал…
Мотор опять застучал. Летчик выключал его, чтобы задать нам свой заботливый вопрос.
Опять прыгнул подо мной самолет, но это было знакомое ощущение: воздушная яма.
Левое крыло накренилось: поворот. Восторженная радость не оставляла меня, и я не соображал времени. Я все ждал встречи с птицами, но птиц не было.
Впрочем, вот там над озером, – что это? Чуть видно: извилистая серая полоска.
Конечно это гуси! Как низко над землей они летят! И очень смешно: вытянули вперед длинные шеи, машут крыльями, – а сами ни с места!
Вот медленно-медленно проплыли назад озера, город. И опять мы висим над степью.
Вот светлая узкая полоска дороги – видней и видней. Можно уже различить на ней стадо коров. Наверно, их гонят в город; головами все к нам.
Я глянул на Виктора Степановича. Его нос торчал из шлема, как птичий клюв, и был направлен вниз. «Тоже, верно, на дорогу смотрит», – подумал я.
Самолет снизился, шел на посадку. Теперь я видел совсем ясно: стадо идет по дороге разреженно, и коровы все на подбор темные: коричневые, черные, красные. Гуртовщики идут по обочинам дороги, сбивают стадо бичами, а коровы почему-то не желают сгрудиться.
Самолет еще круче наклонился на одно крыло – и земля понеслась на меня, штопором ввинчиваясь в глаза. Наконец-то, вот оно: дух прихватило!
Летчик не велел глядеть вниз при посадке. Но я опять не послушал совета. Да и не к чему было: уже явилось доверие к этой летучей «конструкции», и, как ни быстро летели мы к земле, ощущения катастрофы падения не было. Движение по кругу успокаивало нервы.
На последнем кругу земля вдруг подскочила, с бешеной быстротой кинулась ко мне. Завихрились березы, барак с флагом, – и вот уже «конструкция» неуклюже бежит по полю, подскакивая на всех неровностях, и навстречу нам бежит от барака рабочий. И вот мотор замолк.
Подкатываем к тому месту, откуда поехали, и – стоп!
Хочу подняться – и не могу. Ах, да: ремень ведь! (Я о нем ни разу и не вспомнил.)
Отцепил, выскочил, снял шлем, вату из ушей вытянул, – а в ушах все еще шум и кровь стучит.
Вот на крыльце; летчик протягивает большую руку и говорит без улыбки, торжественно:
– Поздравляю с первым воздушным полетом.
И вот опять мы мчимся в автомобиле с Виктором Степановичем – назад в город. Я все еще полон волшебных ощущений полета. Но спутник мой хладнокровно начинает разговор с того места, где кончил его до полета:
– Ну-с, так какие же у вас доказательства, что черная с белым масть хуже видна?
Шофер дудит, дудит: мы огибаем большое стадо коров, – то самое, что видели сверху. Гуртовщики кричат и щелкают бичами. А мы с Виктором Степановичем глядим удивленно на стадо: коровы идут тесно сгрудившись, и они разной масти – сколько угодно и пегих среди них.
– А мне казалось сверху… – говорит Виктор Степанович.
– Вот в том-то и дело! – кричу я, торжествуя. – С высоты птичьего полета мы видели бурых, черных, кофейных коров, а вот пегих не видели. Пегие спины не складывались для нас в знакомые фигуры, черные и белые пятна разбивали рисунок спины, – и мы принимали их сверху просто за пустые места, за промежутки между животными.
– Да, так, пожалуй, так… – задумчиво соглашается мой спутник. – Мир кажется иным с высоты птичьего полета… Заведу себе пегую собачку.
Заяц-всезнаец
Пришли ко мне из соседнего колхоза два охотника. Завернули табачку, поговорили о том о сем, потом старик и говорит:
– А мы до тебя с делом. Как есть ты человек ученый, каждую животную по имени знаешь, верно, и нам пособить можешь.
– А что такое? – спрашиваю.
Молодой усмехнулся, говорит:
– Сказать стыдно. Заяц нас забижает. Каждый день в колхозном огороде одной капусты сколько потравил. Здоровый русачина.
– Так застрелите его.
– То-то вот и есть, что не дается никак. Уж мы его и с собаками имали, и самострел ладили – нет на него погибели! Видеть – видим, а взять – вот поди ты: как сквозь землю уходит! Уж девки над нами смеются – срам и срам.
– Искушение!.. – забормотал старик. – Хоть попа с кадилом зови. Намедни шли мы с поля, а он как порскнет из-под ног! Я в его топором, сам поскользнулся да в яму – ух! Весь в грязи вылез, ребята зубы скалят. А он сгинул, как не бывало.
– Чепуха какая! – сказал я. – Заяц как заяц. Чем топором швыряться, вы бы его из ружья ахнули: никуда бы не ушел!
– Пробовали и с ружья, – сказал молодой. – Видали ведь мы зайцев, сами охотники. Уж как хотите, а этот русак не простой. И ловушки знает, и ружье знает, и собаку со своего следу сбить знает. Прямо сказать – заяц-всезнаец. Поди сам спытай, коли не веришь.
– Приходи, сделай милость, – сказал старик. – Может, и повезет тебе счастье. За тем и пришли до тебя.
– Конечно, завтра же буду у вас. Только одно: я убью вашего русака, а вы скажете – не тот.
– Не-е, – протянул молодой и поглядел на старика, – этому не бывать. Скажи-ка им, дядя.
– Что еще? – удивился я.
– А то… – начал старик и запнулся. – Того… Ты, может, за глупых нас посчитаешь. Да уж все одно: придешь, своими глазами увидишь. У того русака на спине деревянная ручка приделана.
Я чуть не прыснул со смеху.
– Ну, дядя, хватил! Уж если ручка приделана, так остается, как говорится, выкрасить да выбросить вашего русака, и дело с концом.
Старик ничего не сказал, даже не улыбнулся. Молодой осклабился и проговорил как бы с извинением:
– Самим не верко, да вот приходи давай, поглядишь. Может, по-вашему, по-ученому, оно и просто объяснить.
Завернули еще по цигарке, простились и ушли.
Задумался я. Вижу, дело серьезное, и взяться за него надо немедленно. И не в том беда, что заяц немножко капусты колхозной попортит, а в том, что вокруг него тайна: «ручка» какая-то на спине и эта непонятная способность уходить от ружей, собак и ловушек. Где темная тайна, там быстро растут шепотки да слухи и вырастают глупые суеверия. В памяти деревни пробуждается старый мир, леса и болота, населенные животными-оборотнями, лешие, водяные и всякая нежить. И вон уж – про попа с кадилом поминал старик.
Я решил зайца этого во что бы то ни стало добыть и все его тайны распутать от начала до конца.
Принялся за дело утром на следующий день. Крикнул свою охотничью собаку, взял ружье и отправился в соседний колхоз.
Молодой охотник повел меня на огород невдалеке от деревни, куда, по его словам, каждую ночь приходит таинственный русак. Показал мне дыру в частом осеке[6] и настороженный здесь лук-самострел. Ловушка была так налажена, что и крыса не могла бы проскочить в огород: стрела бы непременно ее поразила. Дыра в осеке перетянута крест-накрест совершенно незаметным даже вблизи конским волосом. Стоит коснуться волоска – самострел разрядится, и стрела полетит прямо в дыру.
Я и стрелу осмотрел: длинное древко и на конце трехзубая железная острога, какой бьют крупную рыбу с лодки, только маленькая.
– Сам в кузнице делал, – сказал охотник с гордостью. – Глянь, зубья-то какие: уж не сорвется.
На железных зубьях были большие зазубрины, язычки, как на рыболовном крючке.
Я спросил:
– Попадался кто-нибудь в эту ловушку?
– Как не попадаться! Четверых зайчат да двух матерых русаков взял за лето. А весной – тогда еще всезнаец-то заяц не приходил – я иду раз утром, гляжу: тетива спущена, а никого нет. И стрелы нет. Так ее и не нашел, пришлось новую сделать.
Пока мы стояли, разговаривали, моя собака тут же у самострела подхватила след, затявкала и пошла скакать через гряды картофеля. Я скинул ружье с плеча, приготовился стрелять.
– Пошел, пошел! – закричал охотник. – Вон стегает.
Здоровый русачина дул через грядки, и я различил на рыжей его спине белую деревяшку величиной с обыкновенную дверную ручку.
До зайца было шагов шестьдесят, ни секунды нельзя было медлить. Я выстрелил как раз в тот момент, когда русачина широким прыжком легко, как кузнечик, поднялся на воздух – перемахнуть осек.
То ли я промазал с непривычки стрелять «влет» по зайцам, то ли еще что, только дробь моя никакого вреда русаку не причинила. Он с невероятной быстротой понесся по полю, а вслед за ним перескочила осек и помчалась собака.
– Видел? – коротко спросил молодой охотник.
– Ничего не доказывает. Собака завернет его, а я возьму дробь покрупней.
– Идемте, – согласился охотник. – Только наперед скажу: уйдет он и от собаки.
– Посмотрим.
К большой моей досаде, охотник оказался прав. Мы видели, как заяц, далеко опередив собаку, пересек поле и направился прямо к железнодорожному валу. Как раз в это время с грохотом и лязгом мчался по насыпи скорый пассажирский. Заяц исчез в кустах под насыпью, и вагоны прогромыхали у него над головой.
– И машину знает, – сказал охотник. – Не боится ее ни вот столько. Говорю: заяц-всезнаец. А теперь нам его сегодня больше не видать. Он как дойдет до тех кустов, так здесь и сгинет.
И опять парень оказался прав.
Напрасно с лаем носилась моя собака по кустам, напрасно я прыгал с кочки на кочку в этом болотистом кустарнике. Заяц исчез.
– Каждый раз вот эдак сквозь землю уходит, и все на этом месте, – говорил молодой охотник.
Целый день я отыскивал зайца. К ночи вернулся домой усталый и, надо правду сказать, сильно обескураженный. Орешек оказался крепче, чем я рассчитывал.
Скоро проклятый русак изменил всю мою жизнь. Я забросил работу, вставал с восходом и уже хорошо знакомой дорогой отправлялся на колхозный огород. Почти каждый день я заставал там зайца-всезнайца, но выстрелить по нему больше ни разу не удалось. И каждый раз я терял его из виду в кустах у полотна железной дороги.
В колхозе уже посмеивались надо мной:
– Что, паря, заяц-то, выходит, умней тебя?
И когда я, наконец, явился без ружья и без собаки, старик охотник презрительно улыбнулся и как бы про себя сказал:
– Видать, нечистая-то сила шибче твоей учености.
Я промолчал: у меня был свой план.
На холме за полотном железной дороги стояла дозорная вышка. Я попросил молодого охотника через полчаса прийти с его собаками в огород, а сам прямо отправился к этой вышке и залез на самый верх. Как только я заметил, что охотник приближается к огороду, я поднял бинокль – и уж не отнимал его от глаз, пока первая тайна зайца-всезнайца не была разгадана.
Я видел, как на ладошке: русак перемахнул осек, пересек поле и скрылся в кустах у железнодорожной насыпи. Я стал водить биноклем по рельсам в одну и в другую сторону: у меня была догадка, что заяц, может быть, взбегает на насыпь и удирает по ней.
По рельсам проходил длинный товарный поезд, но русака ни впереди, ни позади него не было.
Кусты были по правую сторону полотна. Я посмотрел на поле с левой стороны полотна и вдруг увидел там как из-под земли выскочившего зайца. Это был заяц-всезнаец: в бинокль ясно различил я белую деревянную ручку у него на спине.
Он тихонько приблизился к маленькому островку деревьев – к рощице посреди поля – и скрылся в ней.
Еще минут пять я не отнимал бинокля от глаз: следил, не выйдет ли заяц из рощицы. Он не вышел. Значит, лежка его была там, в роще.
Не слезая с вышки, я окликнул охотника. Он поднялся на вал.
Я крикнул ему:
– Возьми собак и ступай вон в ту рощицу. Ружье приготовьте: заяц там.
А сам опять приложил бинокль к глазам.
Добрые гончаки живо прихватили след, залились и полным холод помчались к рощице. Я боялся только, что охотник не сумеет занять настоящего лаза, чтобы застрелить русака, когда тот выскочит из рощи.
Случилось другое.
Охотник занял хорошую позицию в поле за кусточком. Собаки с лаем дали несколько кругов по роще и вдруг выскочили в поле.
А заяц так и не показался.
После тщетных розысков охотника, самолично обшарившего всю рощу, мне стало ясно, что тут мы наткнулись уже на вторую тайну зайца-всезнайца. Я ведь знал наверно, что он сидит в этой рощице: кругом было чистое, ровное поле, и я бы непременно увидел зайца, если б он выскочил.
Я слез с вышки. И в этот день мне удалось разгадать только первую тайну зайца-всезнайца: как он сбивает собак со следа в кустах у насыпи.
Неожиданно правы оказались именно охотники-колхозники: русак здесь действительно сквозь землю проходил.
В железнодорожной насыпи была труба, какие прокладывают, чтобы пропустить ручеек, размывающий вал. Местность была болотистая. В кустарнике у насыпи скапливалась вода, а прежде, вероятно, когда строили дорогу, тут и ручеек бежал. Заложили трубу. С тех пор низкое место под насыпью заросло кустами, вход в трубу стал незаметен.
Русак знал его и свободно проходил сквозь трубу. Собаки тут пролезть не могли. А он неожиданно появлялся в поле.
Я попросил молодого охотника никому не говорить про мое открытие, пока я не добуду зайца: ведь вместо одной загадки передо мной встала другая. Я ума не мог приложить, – куда он девался из рощи? Не на воздух же поднялся!
Взять зайца-всезнайца теперь уже было просто: надо было мне только стать с ружьем по ту сторону насыпи у трубы, а охотника попросить шугнуть русака из огорода. И косой, проскочив трубу, дался бы прямо мне в руки.
Но загадка его исчезновения в роще оставалась неразрешенной, и я дал себе слово взять хитрого русачину только на его лежке. Уж очень интересно было распутать все его хитрости!
Но и эта задача оказалась трудней, чем думалось.
Напрасно ходил я четыре дня подряд с ружьем и собакой, напрасно изучал каждый метр земли в роще. На земле были заячьи следы.
Они кружили и переплетались чуть не под каждым деревом. И каждый раз были свежие следы: собака волновалась и лаяла. Но распутать их не было никакой возможности и нигде не было ни признака лежки.
Лежка русака – это обычно простая ямка, вмятина где-нибудь под кустиком, или под камнем, или под кучей хвороста. Я уж готов был допустить, что тот удивительный русак – заяц-всезнаец – делает себе нору, зарывается и землю, как кролик. Но и норы нигде не было, рощица была без подроста, все видно в ней, каждый следок на земле и большая черная лужа посредине.
Спрятаться здесь заяц никак не мог. И сколько я ни ходил в рощу, я ни разу его тут не видел.
Тогда я опять взялся за бинокль. Только в этот раз полез не на вышку, а на кудрявую иву, с которой хорошо просматривалась роща. Ждать пришлось недолго: ведь теперь уже я точно знал, в какие часы заяц-всезнаец закусывает на огороде и когда приходит вздремнуть в рощице.
Скоро я увидел, как он появился из трубы под насыпью. Он спокойно пересек открытое поле и прошел прямо под тем деревом, где я сидел.
Конечно, ему и в голову не пришло посмотреть вверх. Он даже и не подозревал о моем присутствии, а я разглядел в бинокль чуть не каждый его волосок. И таинственную деревянную ручку у него на спине.
В ту ночь первый раз со дня знакомства с зайцем-всезнайцем выспался я крепко. Утром встал поздно, поработал и только после обеда отправился в соседний колхоз – с ружьем, без собаки.
Я пригласил с собой старого охотника, молодого и еще несколько стариков и парней. Я объявил им, что у них на глазах убью всем им известного зайца-всезнайца, которого они принимают за нечистую силу.
Мой уверенный тон сбил с толку насмешников. Перешептываясь между собой, они двинулись за мной.
Все шло как по-писаному.
Гончаки молодого охотника подняли зайца с огорода.
Заяц перемахнул осек, пересек поле и пропал в кустах. Собаки потеряли его след и вернулись к хозяевам.
Я повел колхозников к насыпи и показал им трубу. Все ахнули, а старик охотник пробормотал что-то насчет того, что ни один заяц в трубу не полезет, не кошка-де.
За полотном железной дороги собаки опять взяли след. Они обегали всю рощу и опять, смущенно поджав хвосты, вышли в поле.
Старик охотник презрительно посмотрел на меня и хмыкнул.
Молодой, наоборот, глядел на меня с доверчивым ожиданием. Я попросил его взять собак на сворку, сказал, что больше они нам не понадобятся. Он охотно повиновался.
Я привел компанию в середину рощицы, к большой черной луже, и снял ружье с плеча. Я сказал:
– Ваш заяц-всезнаец хитер, как лисица. Он нашел себе удивительно безопасное местечко для лежки. Вы стойте в двадцати шагах от него. Можете разговаривать, шуметь, – заяц не выскочит и не побежит. Он уверен, что ни человек, ни собака не найдет его в этом убежище.
Кто-то из колхозников недоверчиво спросил:
– Что ж, по-твоему, в эту лужу, что ли, он нырнул?
– Нырнуть не нырнул, а след свой в ней потопил.
– Полно морочить нас! – сердито вдруг заговорил старик охотник. – Поди, не на дереве сидит, – он показал на дряхлую пузатую приземистую иву посреди лужи. – Не птичка, поди, чтобы по ветвям порхать. Ты, парень…
Я прервал его.
– Как раз на этом-то дереве он и сидит. Смотрите.
Я поднял двустволку, прицелился в иву на метр от воды – и выстрелил.
В ту же минуту сбоку из дерева с плеском стеганул в воду русачина с белой палочкой на спине.
Все были так удивлены неожиданным появлением зайца из дерева, что молча стояли с разинутыми ртами. Никто даже и не подумал выстрелить.
– Разглядели? – спросил я. – Айда за мной!
Я вошел в лужу, и все пошлепали за мной.
Сбоку от того места, где мы только что стояли, в толстом стволе дряхлой ивы зияла большая дыра – дупло над самой водой. В нем на трухе была вмятина. Там были ясно видны волоски заячьей шерсти.
– Скажи ты… Лежка! – ахнул молодой охотник.
Старик только сплюнул и зашлепал назад по луже. Но вдруг он остановился, повернулся к нам и насмешливо проговорил:
– А ручку-то кто ему на спину приделал? Сам себе, что ли?
Но у меня и на этот вопрос был готов ответ. Когда я сидел на дереве и заяц-всезнаец проходил подо мной, я хорошо разглядел в бинокль эту «ручку».
– Сам, – сказал я, – конечно сам, при ближайшем участии вот этого молодого человека, – и я указал на молодого охотника. – Узнал?
– Моей работы! – рассмеялся молодой охотник. – Сам в кузнице ковал. Уж назад не выйдет!
«Ручка» на спине зайца – это был обломок стрелы самострела, установленного молодым охотником в дыре осека на огороде.
Здоровый русачина унес стрелу на себе, обломал ее где-то, а кусок древка с железным трезубцем, застрявшим в теле, так и носит у себя на спине.







