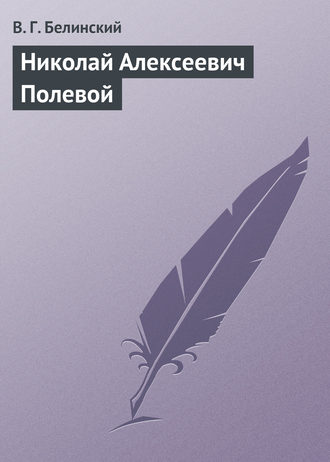
В. Г. Белинский
Николай Алексеевич Полевой
Загляните в современные «Московскому телеграфу» журналы, – и вы подумаете, что Полевой не умел иначе говорить, как страшными ругательствами, что журнал его был складочным местом полемики дурного тона, брани, дерзостей, лжей. Но пересмотрите «Московский телеграф» хоть за все время его существования, – и вы увидите, что всегда, в жару самой запальчивой полемики, он умел сохранять свое достоинство, уважать приличие и хороший тон и что в самых любезностях его противников было больше грубости и плоскости, нежели в его брани. Мы пишем не панегирик, не эклогу, а характеристику замечательного деятеля на поприще русской литературы, и потому мы не скажем не только того, чтобы Полевой никогда не ошибался, но и того, чтобы он всегда был беспристрастен в отношении к своим противникам, всегда умел отдавать им должную справедливость. Нет, он был человек, и притом постоянно раздражаемый самыми возмутительными в отношении к нему несправедливостями, ошибался и бывал не прав; но в истории человеческих дел вопрос не в том, кто был безупречен и непогрешителен, а в том, кто более других, относительно, по возможности, был справедлив или у кого сумма доброго стремления и добрых дел если не перевешивает недостатков и слабостей, то искупляет их… И в этом отношении издатель «Московского телеграфа» смело мог бы рассказать всему свету историю своих отношений к противникам, не скрывая своих промахов и ошибок, смело мог бы один противостать, целой их фаланге… Наведя справки, не трудно убедиться, что полемики в «Московском телеграфе» было не много, по крайней мере меньше, нежели в каждом из современных ему журналов, не говоря уже о том, что его полемические статьи всегда были умны, дельны, остроумны, ловки и приличны. И потому причину общего ожесточения против этого журнала должно искать не столько в полемических статьях, сколько в его критике и библиографии, где правда высказывалась столько же прямо, сколько и прилично, отчего и кусалась больнее. До «Телеграфа» в нашей журналистике уклончивый тон принимали за одно с вежливым; старались как можно меньше говорить о писателях и сочинениях, а если говорили, то с тем; чтобы хвались общими избитыми фразами. Полевой показал первый, что литература – не игра в фанты, не детская забава, что искание истины есть ее главный предмет и что истина – не такая безделица, которою можно было бы жертвовать условным приличиям и приязненным отношениям. Изъявить публично такой образ мыслей в то время значило сделать страшную дерзость и выказать себя человеком «беспокойным», то есть хуже, чем безнравственным. Многие разделяют людей в нравственном отношении: на благонамеренных и беспокойных; первые не мешают другим обделывать свои делишки, каковы бы они ни были, лишь бы только и им никто не мешал втихомолочку заниматься тем же самым; вторые никак не могут вытерпеть, чтобы не заговорить громко, узнавши, что их сосед, посредством справок и отношений, пустил по миру целое семейство, или
Когда весь город знает,
Что у него ни за собой,
Ни за женой —
А смотришь помаленьку,
То домик выстроит, то купит деревеньку.{17}
И в литературном мире, даже и теперь, «благонамеренных» несравненно больше, нежели «беспокойных», а в то время, то есть до «Телеграфа», последних почти вовсе не было. И потому очень естественно, что этот журнал многим казался чудовищным явлением, именно потому, что здравый смысл, образованный вкус и истину ставил выше людей и ради их не щадил авторских самолюбий. Теперь с трудом можно поверить, чтобы когда-нибудь могло быть таким образом и до такой степени; и это опять заслуга Полевого, и заслуга великая!
Это обстоятельство опять указывает на резкое различие роли Полевого от роли Карамзина на одном и том же, впрочем, поприще. Карамзин не был связан прошедшим, и ему не с чем было бороться, почему он и не оскорбил ничьего самолюбия, не возбудил ничьей вражды к себе, кроме завистников, бледный рой которых скоро должен был исчезнуть при быстрых успехах его славы и при общей любви к нему большинства образованного общества. Обстоятельства, положение литературы, дали Полевому роль бойца. Он не столько утверждал, сколько отрицал, не столько доказывал, сколько оспаривал. Кроме того, во время Карамзина было не до идей и вопросов, первых никто не спрашивал, вторых не было, общество было для них еще слишком молодо, неразвито и бессознательно. Спорили о фразах, хлопотали о правильности и чистоте языка, и все вопросы заключались в стилистике. Во всем остальном дело шло о том, чтобы педантическую, школьную литературу сделать светскою, общественною и общительною, равно привлекательною и для кабинетного труженика, и для делового человека, и для светского щеголя и светской дамы. И Карамзин это сделал не теориями, не спорами, а образчиками сочинений, которых требовал дух времени. Он был знаком хорошо и с французской, и с немецкой, и с английской литературами, но их влияние на него было больше внешнее, нежели внутреннее. Идеи XVIII века не волновали его, по крайней мере, этого не заметно в его сочинениях. Фонвизин, предшественник Карамзина, гораздо больше его был сыном своего века. Карамзин занял у XVIII века только сентиментальное направление и обожание природы, которую называл он Натурою, тоже сентиментальное, но не пантеистическое; о любви и всех сердечных склонностях говорил он как будто с голосу Руссо, но в сущности смотрел на них не больше, как на извинительные слабости человеческого естества. Вот все, чем ограничилось влияние на него века. Но через двадцать пять лет явились уже другие потребности, явилось стремление к сознанию, к исследованию, к анализу. Захотели узнать, что такое Шекспир и Байрон, Данте и Сервантес, Гёте и Шиллер, что такое Восток и классическая древность, что такое философия, политическая экономия и т. д., и все это свели на вопрос о классицизме и романтизме или, по крайней мере, кстати и некстати все это привязали к нему.







