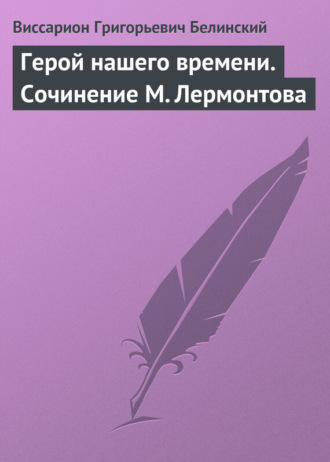
В. Г. Белинский
Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова
Вечером к Печорину приходил лакей с приглашением от княгини, но он сказался больным. Всю ночь он не спал, в голове его пробегали мысли за мыслями. От угроз Грушницкому, которого он почитал верною жертвою своею, он перешел к мысли о непостоянстве счастия, которое доселе неизменно служило ему. «Что ж, – думал он, – умереть так умереть! потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно. Я – как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова… Прощайте!..»
Затем он обращается на всю жизнь свою, и ему невольно приходит в голову вопрос о цели его жизни. «Зачем я жил? Для какой цели я родился? А верно она существовала, и верно было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные… Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений – лучший цвет жизни!..»
Поучительна немая беседа с самим собою человека, который завтра готовится быть или убитым, или убийцею… Мысль невольно обращается на себя, и сквозь мглу предрассуждений и умышленных софизмов блестит луч ужасной истины… Но решение принято, шаг сделан, и возврата нет: само общество, которое смотрит на кровавые сделки, как на безнравственность, само общество, противореча себе, запрещает этот возврат своим насмешливо-презрительным взглядом, своим недвижно остановившимся на жертве перстом… Кровавая развязка дела доставляет ему средства читать себе для других нравоучения, произнести ближнему приговор и надавать ему поздних советов; отступление лишает его занимательного анекдота, прекрасного случая к развлечению на чужой счет. Что ж тут делать? Разумеется, идти вперед, а чтобы вникание в себя и в сущность дела не лишило смелости, закрыть глаза на истину и обеими руками ухватиться за первый представившийся софизм, которого ложность самому очевидна… Печорин так и сделал; он решил, что не стоит труда жить, и он прав перед собою, или по крайней мере не виноват перед теми строгими судьями чужих поступков, которые сами не участвуют в жизни, но на живущих смотрят, как зрители на актеров, то аплодируя, то шикая…
Несмотря на тайное беспокойство, мучившее Печорина, он не только имел силы заставить себя взяться за роман Вальтера Скотта «Шотландские пуритане», но еще и увлечься волшебным вымыслом.
Когда рассвело, он посмотрелся в зеркало: тусклая бледность покрывала лицо его, хранившее следы мучительной бессонницы; но глаза, хотя окруженные коричневою тенью, блистали гордо и неумолимо. «Я, – говорит он, – остался доволен собою». Купанье в нарзане сделало его совершенно свежим и бодрым.
Возвратясь с купанья, он нашел у себя Вернера. Они сели на лошадей и поехали. Тут следует мимоходом краткое, полное поэзии описание прекрасного кавказского утра.
«Я помню, – говорит Печорин, – в этот раз больше, чем когда-нибудь прежде, я любил природу; как любопытно я всматривался в каждую росинку, трепещущую на широком листе виноградном и отражавшую мильоны радужных лучей! как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль! там путь все становился уже, утесы синее и страшнее, и наконец они, казалось, сходились непроницаемою стеною». Они ехали молча.
– Написали ли вы свое завещание? – вдруг спросил Вернер.
– Нет.
– А если будете убиты?
– Наследники отыщутся сами.
– Неужели у вас нет друзей, которым бы вы хотели послать последнее прости?..
Я покачал головой.
– Неужели нет женщины, которой вы хотели бы оставить что-нибудь на память?..
– Хотите ли, доктор, – отвечал я ему, – чтоб я раскрыл вам мою душу?.. Видите ли: я выжил из тех лет, когда умирают, произнося имя своей любезной и завещая другу клочок напомаженных или ненапомаженных волос. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю об одном себе; иные не делают и этого. Друзья, которые завтра меня забудут или, хуже, взведут на мой счет бог знает какие небылицы; женщины, которые, обнимая другого, будут смеяться надо мною, чтоб не возбудить в нем ревности к усопшему. – бог с ними! Из жизненной бури я вынес только несколько дней и ни одного чувства. Я давно уж живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия, Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его; первый, может быть, чрез час простится с вами и миром навеки, а второй… второй?..
Это признание обнаруживает всего Печорина. В нем нет фраз, и каждое слово искренно. Бессознательно, но верно выговорил Печорин всего себя. Этот человек не пылкий юноша, который гоняется за впечатлениями и всего себя отдает первому из них, пока оно не изгладится и душа не запросит нового. Нет, он вполне пережил юношеский возраст, этот период романического взгляда на жизнь: он уже не мечтает умереть за свою возлюбленную, произнося ее имя и завещая другу локон волос, не принимает слова за дело, порыв чувства, хотя бы самого возвышенного и благородного, за действительное состояние души человека. Он много перечувствовал, много любил и по опыту знает, как непродолжительны все чувства, все привязанности; он много думал о жизни и по опыту знает, как ненадежны все заключения и выводы для тех, кто прямо и смело смотрит на истину, не тешит и не обманывает себя убеждениями, которым уже сам не верит… Дух его созрел для новых чувств и новых дум, сердце требует новой привязанности: действительность – вот сущность и характер всего этого нового. Он готов для него; но судьба еще не дает ему новых опытов, и, презирая старые, он все-таки по ним же судит о жизни. Отсюда это безверие в действительность чувства и мысли, это охлаждение к жизни, в которой ему видится то оптический обман, то бессмысленное мелькание китайских теней. – Это переходное состояние духа, в котором для человека все старое разрушено, а нового еще нет, и в котором человек есть только возможность чего-то действительного в будущем и совершенный призрак в настоящем. Тут-то возникает в нем то, что на простом языке называется и «хандрою», и «ипохондриею», и «мнительностию», и «сомнением», и другими словами, далеко не выражающими сущности явления, и что на языке философском называется рефлексиею. Мы не будем объяснять ни этимологического, ни философского значения этого слова, а скажем коротко, что в состоянии рефлексии человек распадается на два человека, из которых один живет, а другой наблюдает за ним и судит о нем. Тут нет полноты ни в каком чувстве, ни в какой мысли, ни в каком действии: как только зародится в человеке чувство, намерение, действие, тотчас какой-то скрытый в нем самом враг уже подсматривает зародыш, анализирует его, исследует, верна ли, истинна ли эта мысль, действительно ли чувство, законно ли намерение, и какая их цель, и к чему они ведут, – и благоуханный цвет чувства блекнет, не распустившись, мысль дробится в бесконечность, как солнечный луч в граненом хрустале; рука, подъятая для действия, как внезапно окаменелая, останавливается на взмахе и не ударяет…
Так робкими всегда творит нас совесть;
Так яркий в нас решимости румянец
Под тению тускнеет размышленья,
И замыслов отважные порывы,
От сей препоны уклоняя бег свой,
Имен деяний не стяжают… —
говорит Шекспиров Гамлет {6}, этот поэтический апотеоз рефлексии. Ужасное состояние! Даже в объятиях любви, среди блаженнейшего упоения и полноты жизни, восстает этот враждебный внутренний голос, чтобы заставить человека думать и
…в такое время,
Когда не думает никто{7},
вырвав из его рук очаровательный образ, заменить его отвратительным скелетом…
Но это состояние сколько ужасно, столько же и необходимо. Это один из величайших моментов духа. Полнота жизни – в чувстве, но чувство не есть еще последняя ступень духа, дальше которой он не может развиваться. При одном чувстве, человек есть раб собственных ощущений, как животное есть раб собственного инстинкта. Достоинство бессмертного духа человеческого заключается в его разумности, а последний, высший акт разумности есть – мысль. В мысли – независимость и свобода человека от собственных страстей и темных ощущений. Когда человек поднимает в гневе руку на врага своего – он следует чувству, его одушевляющему; но только разумная мысль о своем человеческом достоинстве и о своем человеческом братстве со врагом может удержать порыв гнева и обезоружить поднятую для убийства руку. Но переход из непосредственности в разумное сознание необходимо совершается через рефлексию, более или менее болезненную, смотря по свойству индивидуума. Если человек чувствует хоть сколько-нибудь свое родство с человечеством и хоть сколько-нибудь сознает себя духом в духе, – он не может быть чужд рефлексии. Исключения остаются только или за натурами чисто практическими, или за людьми мелкими и ничтожными, которые чужды интересов духа и которых жизнь – апатическая дремота. И наш век есть по преимуществу век рефлексии, почему от нее не освобождены ни те мирные и счастливые натуры, которые с глубокостию соединяют тихость и невозмущаемое спокойствие, ни самые практические натуры, если они не лишены глубокости. Отсюда значение целой германской литературы: в основании почти каждого из ее произведений лежит нравственный, религиозный или философский вопрос. «Фауст» Гете есть поэтический апотеоз рефлексии нашего века. Естественно, что такое состояние человечества нашло свой отзыв и у нас; но оно отразилось в нашей жизни особенным образом, вследствие неопределенности, в которую поставлено наше общество насильственным выходом из своей непосредственности, через великую реформу Петра. Дивно художественная «Сцена Фауста» Пушкина представляет собою высокий образ рефлексии, как болезни многих индивидуумов нашего общества. Ее характер – апатическое охлаждение к благам жизни, вследствие невозможности предаваться им со всею полнотою. Отсюда: томительная бездейственность в действиях, отвращение ко всякому делу, отсутствие всяких интересов в душе, неопределенность желаний и стремлений, безотчетная тоска, болезненная мечтательность при избытке внутренней жизни. Это противоречие превосходно выражено автором разбираемого нами романа в его чудно поэтической «Думе»[6], исполненной благородного негодования, могучей жизни и поразительной верности идей. Чтобы убедиться в этом, достаточно припомнить из нее следующие четыре стиха, в которых сказано больше, чем в двенадцати томах иного «господина сочинителя»:
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови!..
Печорин есть один из тех, к кому особенно должно относиться это энергическое воззвание благородного поэта, которого это самое и заставило назвать героя романа героем нашего времени. Отсюда происходит и недостаток определенности, недостаток художественной рельефности в изображении этого лица, но отсюда же выходит и его высочайший поэтический интерес для всех, кто принадлежит к нашему времени не по одному году и числу месяца, в которые родился, – и то сильное неотразимо грустное впечатление, которое он на них производит… Но мы еще возвратимся к этому предмету, когда кончим изложение содержания романа.
Подробности свидания противников на месте роковой разделки переданы автором с ужасающею истиною и поэзиею. Чтобы расстроить бесчестные намерения своих врагов, возбудив трусость в Грушницком, Печорин предложил ему стреляться на узенькой площадке отвесной скалы, сажень в тридцать вышины, и с острыми камнями внизу. «Каждый из нас (говорит он Грушницкому) станет на самом краю площадки; таким образом даже легкая рана будет смертельна: это должно быть согласно с вашим желанием, потому что вы сами назначали шесть шагов. Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз и разобьется вдребезги; пулю доктор вынет. И тогда можно будет очень, очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачным прыжком. Мы бросим жребий, кому первому стрелять. Объясняю вам в заключение, что иначе я не буду драться…» Грушницкий был поставлен в затруднение – лицо его ежеминутно менялось. Теперь ему нельзя было отделаться легкою раною, нанесенною противнику или полученною им самим. С другой стороны, ему пришлось бы или выстрелить на воздух, или сделаться убийцею, или отказаться от своего подлого замысла. Капитан отвечал на вызов Печорина: «пожалуй!», и Грушницкий принужден был кивнуть головою в знак согласия. Однако он отвел капитана в сторону и стал говорить с ним с большим жаром. Печорин видел, как дрожали его посинелые губы, и слышал, как капитан, отвернувшись от него с презрением, отвечал ему довольно громко: «Ты дурак! ничего не понимаешь!»
Взошли на площадку, изображавшую почти треугольник. Условились, чтобы тот, которому первому достанется встретить выстрел, стал на углу площадки, спиною к пропасти; если же он не будет убит, противники должны были поменяться местами. Бросили жребий – Грушницкому досталось стрелять первому. Когда стали на места, Печорин сказал Грушницкому, что если он промахнется, то не должен надеяться промаха с его стороны. Грушницкий покраснел: мысль убить человека безоружного, казалось, боролась в нем со стыдом признаться в подлом умысле. Доктор снова стал советовать Печорину обнаружить их умысел, и сам было хотел это сделать. «Ни за что на свете, доктор!.. – отвечал Печорин, удерживая его за руку, – вы все испортите, вы мне дали слово не мешать… Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убитым…» – «О! это другое!.. Только на меня на том свете не жалуйтесь…» – отвечал Вернер, посмотрев на него с удивлением.
Капитан зарядил пистолеты и подал один Грушницкому, шепнув ему что-то, а другой Печорину. Печорин выдался вперед, опершись рукою о колено, чтобы, в случае легкой раны, не полететь в бездну; Грушницкий, с бледным лицом, дрожащими коленями, стал наводить пистолет, метя в лоб; но тут совершилось то, что необходимо должно было совершиться, вследствие слабости характера Грушницкого, не способного ни к положительному добру, ни к положительному злу: пистолет опустился, и бледный как смерть, обратившись к своему секунданту, Грушницкий сказал глухим голосом: «Не могу!» – «Трус!» – отвечал капитан, – выстрел раздался – пуля легко оцарапала колено Печорина, который невольно сделал несколько шагов вперед, чтобы поскорее отделиться от края. – Какая верная черта человеческой натуры, в которой ни порывы самолюбия, ни жизненная сила воли не могут заглушить инстинкта самосохранения!..
Теперь настала очередь Печорина. Капитан сыграл сцену прощания с Грушницким, едва удерживаясь от смеха. Можно себе представить, какие чувства волновали Печорина при виде соперника, который теперь с спокойною дерзостию смотрел на него и, кажется, удерживал улыбку, а за минуту хотел убить его, как собаку… Как бы для очистки своей совести, он предложил ему попросить у него прощения, но, услышав гордый отказ, произнес следующие слова с расстановкою, громко и внятно, как произносят смертный приговор: «Доктор, эти господа, вероятно второпях, забыли положить пулю в мой пистолет: прошу вас зарядить его снова, – и хорошенько!» Капитан старался казаться обиженным и утверждал, что это неправда; но Печорин заставил его замолчать, сказав, что если это так, то он и с ним будет стреляться на тех же условиях. Грушницкий подал решительный голос в пользу переряжения пистолета. «Дурак же ты, братец, – сказал капитан, плюнув и топнув ногою, – пошлый дурак!.. Уж положился на меня, так слушайся во всем… Поделом же тебе! околевай себе, как муха!..» Печорин снова предложил Грушницкому признаться в своей клевете, обещаясь этим и кончить дело и даже напомнив ему о их прежней дружбе. Здесь предстоял автору прекрасный случай изобразить трогательную сцену примирения врагов и обращения на путь истины заблудшего человека и тем премного утешить моралистов и любителей пряничных эффектов; но глубоко художнический инстинкт истины, бессознательно открывающий поэту самые сокровенные таинства человеческой природы, заставил его написать сцену совсем в другом роде, сцену, которая поражает своею ужасною, беспощадною истинностию и своею потрясающею эффектностию, при высочайшей простоте и естественности… Лицо Грушницкого вспыхнуло, глаза засверкали. «Стреляйте! – отвечал он. – я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места…»







