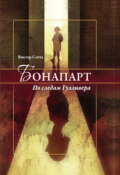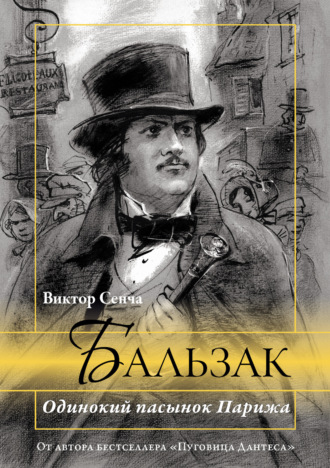
Виктор Сенча
Бальзак. Одинокий пасынок Парижа
Правда, так рассуждали не все. Иного мнения был, к примеру, всё тот же г-н Лепитр, решивший, что, пока другие будут проливать кровь, ему удастся по-тихому где-нибудь отлежаться. Ну а потом, если, конечно, получится, выставить себя героем… Но для этого, понимал он, следовало кое-чем пожертвовать – вернее, кое-кем. В своём письме министру образования директор Лепитр напишет, что все бонапартисты пансиона изгнаны, а вместе с ними и… мятежная г-жа Лепитр.
* * *
…Король Луи XVIII оказался тщеславен и глуп. Ему вдруг показалось, что внезапно свалившаяся на чело бесхозная французская корона будет сидеть на макушке вплоть до скончания века. И от привалившего счастья едва не лишился рассудка.
Приближение Талейрана явилось самой большой ошибкой нового Бурбона.
«Самым ярким представителем недовольных, порожденных императорским режимом, был Талейран, – пишет Луи Адольф Тьер[9]. – Он являлся предметом надежд одних и страхов других, и, хотя был готов вскоре сыграть важную роль и сыграл ее, все намного преувеличивали возможности Талейрана и его решимость. Если бы Наполеон был окончательно побежден, а неприятель находился в Париже, Талейран, бесспорно, мог бы содействовать учреждению нового правительства на обломках правительства поверженного, но он не стал бы проявлять инициативу, пока над дворцом Тюильри развевалось трехцветное знамя: то был ложный страх полиции и иллюзия роялистских салонов»{28}.
Конечно, этот циничный интриган всегда был тайным союзником Людовика XVI, но как кончил несчастный Луи? Призвать к Трону того, кто 18 брюмера содействовал государственному перевороту и возвышению Бонапарта… Того, кто напрямую оказался причастен к казни герцога Энгиенского и свержению испанских Бурбонов… Принятие Хартии и конституции монархии – все это можно было провести и без хромоногого хамелеона. Впрочем, скудоумие когда-то сгубило и его брата, бедного Луи XVI.
Как и казненный король, его последователь совершает одну ошибку за другой, главная из которых – потеря памяти. Граф, долгое время находившийся в изгнании и неожиданно ставший монархом, разучился понимать свой народ. Такие значимые слова, как Свобода, Равенство и Братство, рожденные Великой революцией, как оказалось, для Людовика XVIII ничего не значили. Он позабыл о них. Впрочем, эти слова для монарха никогда ничего не значили. Но только не для его подданных, для которых три знаковых слова являлись смыслом жизни! Два десятка лет Свободы, и Равенства, и Братства (пусть даже в Империи – но в наполеоновской!) изменили людей: после многих лет этого самого равенства французов трудно было вновь сделать вассалами.
Но Луи-Огурец (именно так за тучное тело и одутловатое лицо прозвали нового короля в народе) вновь и вновь наступает на грабли: новоявленный монарх вознамерился повернуть время вспять – туда, ко временам казненного брата. Пусть не абсолютная монархия – но монархия же! Тем более что рядом находилась неплохая советчица – герцогиня Ангулемская, дочь казненного Людовика XVI. Лучше всех о ней высказался Антуан Тибодо: «Ангел явился – сухая, надменная, с хриплым и угрожающим голосом, с изъязвленной душой, с ожесточившимся сердцем, с горящими глазами, с факелом раздора в одной руке и мечом отмщения в другой»{29}.
Постепенно, шаг за шагом ключевые должности при Людовике занимаются роялистами-эмигрантами – теми самыми, кто воевал против своего народа не год и не два – два десятка лет! Овеянное славой и омытое кровью трехцветное знамя Великой революции отныне белое, а когда-то трехцветная кокарда – тоже белая, да ещё и с лилиями Бурбонов…
Наплевав на права простых граждан, король идет дальше, решив сэкономить на военных. И это явилось ещё одной серьёзной ошибкой Людовика. Никто, начиная со времен римских кесарей, не делал этого, не получив обратно в лоб. Армия пренебрежения не прощает! Даже не первой свежести гризетка – и та требует если не уважения, то хотя бы человеческого к себе отношения. Несмотря на то что военным министром был утвержден прославленный наполеоновский маршал Сульт, пытавшийся сохранить своих боевых соратников на прежних должностях, многие офицеры все-таки были уволены. На их место заступили выскочки-эмигранты, по сути, вчерашние враги. О былых подвигах солдат Великой армии Наполеона новички предпочитают не вспоминать, относясь к ветеранам с подчеркнутым пренебрежением.
Луи XVIII вдвое уменьшил военным жалованье. Тем более что имелся один чрезвычайно важный нюанс: то были офицеры и генералы не Луи-Огурца, а все как один – солдаты своего Императора, Наполеона Бонапарта! Выпестовавшего их и любившего, как своих единокровных братьев. То была наполеоновская каста, победоносно промаршировавшая от Парижа до Москвы. Правда, потом пришлось возвращаться несолоно хлебавши, но не в этом дело. Тогда, при Наполеоне, они все чувствовали себя Единым Кулаком, способным покорить мир. И вдруг какой-то Огурец…
Луи Адольф Тьер: «Решение участи офицеров представляло… большие трудности. Согласно предложенной организации без должностей должны были остаться 30 тысяч офицеров. В их отношении, как и в отношении Императорской гвардии, было принято половинчатое решение: тех, кто не мог быть включен в предложенную систему, оставляли на счету полков с уплатой половины жалованья и правом на две трети освобождавшихся мест. Это значило одновременно создать весьма опасный класс недовольных и запретить почти всякое продвижение оставшимся кадровым офицерам»{30}.
Армия возроптала. А ведь ещё были сотни и тысячи служащих всякого рода – таможенники, сборщики податей, офицеры полиции, которые были вместе с армией в её нелёгких походах, и также погибавших, а теперь умиравших от голода в Париже вместе с семьями.
И эти люди, как пишет Тьер, также «присоединялись к группам недовольных офицеров и добавляли к их веселью сокрушительное зрелище собственной нищеты»{31}.
Луишка слаб, он не способен на серьезную военную кампанию; любая заварушка для этого «бочонка» может уложить его в обморок. За что воевали, братья?! За кого умирали в русских снегах?! Даешь обратно Бонапарта! «Vivat l’empereur!»… Долой Бурбонов!
Однако крикунов осаживают. Сейчас не то время, консулы – в прошлом. Бонапарт на Эльбе. Вот вернется – кричите…
* * *
Бонапарт вернулся.
1 марта 1815 года Наполеон высаживается в Гольф-Жуане, близ Антиба. Свергнутый император жадно вдыхает воздух Франции, встретившей его весенним ароматом.
Бурбоны при усердии Талейрана Бонапарта ловко провели. Поэтому он был уверен, что французы одумаются. Только в этот раз им не придется брать штурмом Бастилию – сейчас достаточно в сторону Бурбонов крикнуть «ату!». Но то – Бурбоны. А как быть с теми, с кем воевал, побеждал и проливал кровь в боях за Францию? Ведь первым сейчас на его пути должен был встать старый соратник Массена! Именно маршал Массена военным министром Сультом был поставлен на командование 8-м военным округом (Марсель). И старый вояка Массена Сульта не подвел, приказав генералу Миоллису перехватить беглеца на южном побережье во что бы то ни стало.
Дивизионный генерал Секстус-Александр-Франсуа Миоллис был тертым калачом. Именно он, будучи в 1809 году командиром 30-й дивизии, расквартированной в Риме, по приказу Наполеона арестовывал папу Пия VII, и он же эвакуировал Париж при приближении изменника Мюрата в окружении австрийцев. Так что этот битый жизнью наполеоновский генерал умел принимать решения быстро и пунктуально. Выйдя наперерез Бонапарту во главе двух пехотных полков, уже через день он встанет под знамена свергнутого императора.
Между тем немногочисленная армия Наполеона, скрытно перейдя Альпийское предгорье, уже 7 марта выходит к Греноблю. Когда об этом узнали в Париже, там началась паника. Военный министр Сульт был срочно отправлен в отставку; на его место король назначил Анри Кларка, герцога Фельтрского. (Но что это могло изменить?)
При подходе к городу, у входа в ущелье близ деревни Лаффре, навстречу отряду выдвинулись королевские части под командованием генерала Маршана. Несмотря на то что под ружьем у Маршана находилось шесть полков (три пехотных, гусарский, саперный и артиллерийский), в ущелье он отправил роту саперов и батальон 5-го линейного полка (те должны были взорвать мост). Командовал ими некто капитан Рандон. Но на полпути отряд Рандона сталкивается с авангардом Наполеона.
Не желавший начинать братоубийственную бойню, Бонапарт предпринимает следующее. Он приказывает своим солдатам переложить ружья из правой руки в левую и опустить. Остановив жестом руки отряд, Наполеон дальше идёт один, навстречу направленным на него ружьям. Подойдя к солдатам 5-го линейного полка на расстояние пистолетного выстрела, он распахивает на груди сюртук и громко кричит:
– Солдаты пятого полка! Надеюсь, вы узнали своего Императора?! Неужели среди вас есть желающие выстрелить мне в грудь?.. Я в вашей власти… Если захотите, вы можете застрелить вашего Императора прямо сейчас!..
И тут послышался какой-то гул. Становясь все громче и громче, с какого-то мгновения этот гул стал различимым: французские солдаты радостно приветствовали того, кому привыкли кричать только одно:
– Vivat l’empereur!.. Vivat l’empereur!.. Vivat l’empereur!..
После того как действия 5-го полка поддержали солдаты 7-го линейного (командир – генерал Лабедуайер), к концу дня чаша весов оказалась на стороне бонапартистов. Мятежные полки покинули Гренобль, а с ними и вооруженные чем попало горожане и местные крестьяне. Когда на следующий день в город входит Наполеон, людская толпа несет его на руках.
– Vivat l’empereur!.. Vivat l’empereur!.. Vivat l’empereur!..
10 марта вслед за Греноблем пал Лион. Страна напоминала разворошенный муравейник. Все сновали и суетились, не зная радоваться или спасаться бегством. Бурбоны уже успели надоесть. Но никто не хотел опять воевать. А возвращение Наполеона, понимал каждый, в любом случае означало войну…
И тогда власти идут на беспрецедентный шаг: навстречу мятежной наполеоновской армии выдвигается «храбрейший из храбрых» («le Brave des Braves») – маршал Ней. Но Ней уже не тот Ней, который вел свой корпус по скрипучему льду Днепра. Ней обещал Бурбонам доставить беглеца в Париж… в железной клетке.
Однако мало кто знал, что Ней колебался. Этот маршал был отчаянным и храбрым, но не подлым и забывчивым. Ней по-прежнему оставался маршалом Императора. И об этом знал не только он сам, но и Бонапарт. Ничего удивительного, что уже на марше Нею доставили коротенькую записку «от Самого»: «Ней! Идите мне навстречу в Шалон. Я Вас приму так же, как на другой день после битвы под Москвой».
И Ней все понял. Вскочив на коня, он выхватил из ножен саблю и воскликнул:
– Мои офицеры и солдаты! Дело Бурбонов дохлое! Оно погибло навсегда!..
Армия Нея в полном составе перешла на сторону Наполеона. Людовик XVIII бежал в Гент. Теперь можно было идти на Париж…
20 марта, в девять вечера, Император вернулся в Тюильри.
А. Тьер: «Так, за двадцать дней, с 1 по 20 марта, свершилось необычайное пророчество о том, что императорский орел полетит без остановок с колокольни на колокольню до самых башен Нотр-Дама. Не было в судьбе Наполеона события более необыкновенного и с виду более необъяснимого… Ведь подлинными причинами необычайной революции, помимо ошибок Бурбонов, была проницательность Наполеона, прочитавшего сердце оскорбленной эмигрантами Франции, и его отвага, когда он привлек на свою сторону первый же колебавшийся между долгом и чувствами батальон»{32}.
Как вспоминал на острове Святой Елены сам Наполеон, Париж встретил изгнанника овациями: «…Отбоя не было от тысяч офицеров и граждан столицы, пытавшихся заключить его в объятия; толпы восторженных людей понесли его на плечах во дворец среди сильнейшего хаоса, похожего на тот, что охватывает неуправляемую толпу, готовую разорвать человека на части»{33}.
А в Тюильри стояла непривычная суета: это лакеи спешно заменяли напольные ковры с королевскими лилиями на другие – старые, на которых красовались императорские золотые пчёлы. Пчёлы, пчёлы, пчёлы…
Была ранняя весна. Париж гудел, как растревоженный после зимней спячки пчелиный улей…
* * *
Малыш Оноре, мы о тебе вновь едва не позабыли.
Так вот, в те исторические дни юный Бальзак вместе со сверстниками восторженно кричал:
– Vivat l’empereur! Vivat!..
Ему тогда казалось, что большей радости, чем возвращение Наполеона, не может быть на свете. Для простых французов очередное появление Бонапарта явилось некой реинкарнацией былых времён. Именно поэтому многие восприняли это как личный праздник. Однако, как заметил Оноре (или это ему только показалось?), далеко не все разделяли с подростком его восторженные чувства.
Теперь о пансионе Лепитра.
Вообще, все пансионы в своей жизни Оноре будет вспоминать с содроганием. Впрочем, иначе и быть не могло. На рассвете учеников будили так называемые зануды – учителя интерната. После подъёма – утренний туалет, с чисткой зубов и плесканием в лицо холодной водой; скудный завтрак… Занятия, которые, кроме скуки, навевали тоску по дому и семье. Мечталось дотянуть до спасительной перемены, во время которой иногда удавалось чего-нибудь перехватить, если, конечно, имелись карманные деньги. Хотя «перехватить» громко сказано: консьерж Мишель торговал таким отвратительным кофе, что… Но ведь другого-то не было. И так изо дня в день.
Трудно представить, как одинок был Оноре в этой клерикальной школе. Брошенный собственной матерью мальчонка оказался наедине с самим собой и с обстоятельствами. А обстоятельства были таковы, что плата за пребывание в школе Лепитра, включая обучение, питание и одежду, была относительно скромной. Но беда заключалась в другом: руководство школой сильно «экономило» на учениках – да-да, дирекция беззастенчиво воровала! Ученик мог выжить, если из дома присылались деньги и тёплые вещи, например шерстяные носки или кожаные перчатки. О, как у него в зимние вечера мёрзли ноги! Порой казалось, что эти ледяные ноги невозможно согреть. Что уж говорить о руках! Вечно красные и холодные, они не могли согреться, даже когда на них приходилось долго дуть. Но горячего воздуха из детского тельца явно не хватало.
Перчатки… Кожаные добротные перчатки могли позволить себе лишь маменькины сынки, коих в школе было немало. Но для таких сорванцов, как Оноре, не замечать мук холода считалось неким шиком, отличавшим будущего мужчину от хлюпика.
Несколько месяцев учёбы в пансионе Лепитра оставили в душе Бальзака не менее глубокое впечатление, чем пребывание в Вандомском коллеже. Расставание с Лепитром прошло без пышных проводов.
Хотя запомнилось многое. Например, благодаря пройдохе-консьержу Мишелю он впервые испробовал кофе – напиток, который в последующей жизни заменит ему вино, пиво, чай, а также сидр и всё остальное, вместе взятое. (И это при том, что кофе от Мишеля все единогласно называли «отвратительным пойлом».) Ведь «Бальзак и кофе – это некий букет единого целого», – скажет один из его современников.
И всё благодаря некоему Мишелю. Как пишет А. Моруа, этот тип был «сущим контрабандистом», который «…“смотрел сквозь пальцы на самовольные отлучки и поздние возвращения воспитанников и снабжал их запретными книгами”; у него всегда можно было выпить кофе с молоком – такой аристократический завтрак был доступен лишь немногим, ибо при Наполеоне колониальные товары стоили очень дорого. Оноре, вечно сидевший без гроша, нередко бывал в долгу у этого человека»{34}.
Кофе заменял бедному Оноре все прелести жизни, в частности телесные удовольствия в парижских борделях. Придёт время, успокаивал он себя, и его будут добиваться лучшие женщины Парижа. Да, такое время непременно придёт. И Его будут добиваться лучшие из лучших! Но тогда, удручённый рассказами своих товарищей о любовных (зачастую – вымышленных) подвигах, с этими мыслями он жил и засыпал.
Кружева… Кружева…
* * *
«Сто дней» реинкарнации Наполеона Бонапарта закончились разгромом французской армии под Ватерлоо и высылкой «узурпатора» на затерянный в Атлантике остров Святой Елены. Политические иллюзии рассеялись, и к власти вновь вернулся Луи-Огурец.
На сей раз всё оказалось серьёзнее. Бурбоны не церемонились. Из страны изгоняли бонапартистов, «цареубийц», республиканцев и прочих неугодных, одновременно конфискуя их имущество. Особо нещадно расправлялись с наполеоновскими генералами и маршалами. Когда казнили маршала Нея, стало понятно: государственный террор достиг своего апогея.
После падения Парижа в 1814 году именно маршал Ней уговорил императора отречься от престола. Бурбоны доверили ему стать членом военного совета; тогда же маршал возглавил королевскую 6-ю дивизию. Однако по возвращении Наполеона с острова Эльбы, как мы помним, перешёл на его сторону.
А потом произошла развязка. К середине 1815 года Мишель Ней командовал 1-м и 2-м корпусами. В сражении при Ватерлоо он руководил центром французских войск, до последнего сдерживая натиск неприятеля (во время боя под ним было убито пять коней!). Когда всё закончилось, Ней был арестован и привезён в Париж. Людовик приказал судить опального маршала. Военный суд отказался участвовать в этом; зато из ста шестидесяти пэров сто тридцать девять голосов было подано за смертную казнь без права обжалования приговора.
Маршала Нея казнят 7 декабря 1815 года близ Парижской обсерватории. Последнее «пли!» Ней скомандовал сам. По иронии судьбы, легендарного наполеоновского военачальника расстреляли французские солдаты…
Утраченные иллюзии – на самом деле не только название бальзаковского романа. Иллюзии – это то, чего наш герой лишился задолго до лишения своей мужской девственности. Позже Бальзак будет вспоминать, когда в его добром сердце впервые появилось зерно цинизма. И сколько бы ни думал, мысли всегда наталкивались на случай, произошедший с ним в доме родителей.
Обожаемая им сестра Лора (самый близкий Оноре человек) однажды с таинственным видом передала ему некое семечко, не преминув шепнуть, что оно – «драгоценнейшее семя кактуса из Святой Земли».
– Надеюсь, – с придыханием говорила Лора, – тебе удастся не только его сохранить, но и вырастить из него бесценный кактус!..
Оноре пообещал, что непременно это сделает. Он нашёл горшок, насыпал туда земли, прикопал семечко, полил водой и… стал терпеливо ждать. Через какое-то время появился росток, который, по мере того как его старательно поливал хозяин, быстро увеличивался. Оноре был чрезвычайно рад, что его старания не пропадали даром. Однако со временем растение дало плод, скоро превратившийся… в тыкву. Лора громко смеялась. Ну а Оноре…
С тех пор он навсегда лишился всяческих иллюзий.
Осенью 1815 года Бернар-Франсуа забирает сына из пансиона Лепитра и отправляет для продолжения учёбы к своему старому знакомому г-ну Ганзеру (г-н Бёзлен к тому времени скончался). К слову, курс риторики Оноре по-прежнему слушает в королевском коллеже Карла Великого. Однако учился отпрыск славного рода Бальзаков крайне посредственно, что сильно уязвляло матушку.
Узнав, что он всего лишь тридцать второй в латинском переводе, Анна-Шарлотта пишет ему довольно гневное письмо: «Мой дорогой Оноре, не могу подобрать выражений достаточно сильных, чтобы описать боль, которую ты мне причинил, ты делаешь меня по-настоящему несчастной, тогда как, отдавая всю себя моим детям, я должна была бы видеть в них мое счастье… Ты прекрасно понимаешь, что тридцать второй ученик не может принимать участие в празднике, посвященном Карлу Великому, человеку вдумчивому и трудолюбивому. Прощайте, все мои радости, ведь я столь часто лишена возможности собрать вокруг себя детей, я так счастлива, когда они рядом, но мой сын совершает преступление против сыновней любви, так как ставит себя в положение, когда не может прийти домой и обнять свою мать. Я должна была послать за тобой в восемь утра, чтобы мы все вместе позавтракали и пообедали, хорошенько поболтали. Но отсутствие прилежания, легкомыслие, ошибки заставляют меня оставить тебя в пансионе»{35}.
В тот раз его не пригласили на семейные посиделки. Прощай, вкусный домашний обед…
В ноябре 1816 года жизнь Оноре кардинально меняется: он становится студентом юридического факультета Сорбонны. Тогда же посещает Коллеж де Франс, заслушиваясь лекциями известных профессоров. Одновременно с учёбой юный студент подрабатывает в адвокатской конторе.
Лора Сюрвиль: «В этот период своей жизни брат был очень занят, ибо помимо посещения лекций и работы, поручаемой патронами, ему приходилось еще готовиться к очередным экзаменам; но деятельная его натура, его память и способности были таковы, что он еще урывал время, чтобы закончить вечер за карточным столом у нашей бабушки, и эта добрая и славная женщина, по неосмотрительности ли или по нарочитой рассеянности, позволяла ему легко выигрывать в вист или бостон деньги, нужные для приобретения книг. В память о ней он навсегда сохранил любовь к этим играм; он вспоминал ее словечки, а когда однажды воскресил в памяти один ее жест, это стало для него радостью, вырванной у могилы!»{36}
О том, что деньги зарабатываются тяжёлым трудом, первой ему заявила уже стареющая матушка (ей к тому времени стукнуло тридцать восемь):
– Работать, работать и ещё раз – работать!
– Да работа клерком – это же просто рабство! – не выдержал однажды Оноре.
– Что?! – всхлипнула maman. – Работа, милый мой, это прежде всего долг перед семьёй, да и перед всеми нами… В конце концов, Оноре, ты должен зарабатывать деньги! – назвала мадам Бальзак вещи своими именами. – Деньги, дорогой, ох как пригодятся, когда у тебя появятся собственные дети. Без них – никуда…
– Да, но…
– Никаких «но»! – окончательно вышла из себя г-жа Бальзак. – Чтобы чего-то достичь в жизни, ты должен вкалывать как вол!
Вкалывать в жалкой лачуге стряпчего Оноре не хотел. Тем более «как вол». Он желал лишь одного – свободы. И от правоведческой неволи, и от матушки, и от… И от всего.
* * *
Маменькины доводы оказались убедительнее. В результате студент стал младшим клерком в конторе поверенного мсье де Мервиля[10]. Жан-Батист Гийонне-Мервиль, чья контора располагалась на улице Кокийер, 42, был другом отца Оноре, поэтому с устройством юноши проблем не возникло. Зато сама работа давалась нелегко. Тем не менее первое, с чем пришлось столкнуться юному клерку, это нехватка базовых знаний по праву.
«Хотя он посещал две самые лучшие французские школы – Вандомский коллеж и лицей Карла Великого, – он вышел оттуда со всеми признаками самоучки – пишет Г. Робб. – Даже романы, написанные тридцать лет спустя, изобилующие громкими фамилиями и учеными аллюзиями, выдают пристрастие к беспорядочному чтению. Атмосферу книг он часто ценил больше содержания. Привычка Бальзака накапливать знания явно вступала в противоречие с заведениями, где учили по готовым лекалам»{37}.
Маячившая на горизонте свобода на деле обернулась удавкой хлопот и обязанностей. Он вставал с первыми лучами солнца; в пять утра уже выходил на работу. И, ёжась от холода, с большой неохотой брёл туда, где его ждала душная комнатушка, пропахшая бумагой и какой-то кислятиной, с грязными окнами и ободранными обоями. Здесь Оноре встречал таких же несчастных и сонных младших клерков.
Потом эта комнатушка будет не раз появляться в его «человеческих комедиях».
Грэм Робб: «Она [комната. – В. С.] появляется… как своего рода батискаф, который каждый день опускался в мутнейшие воды социального моря. За иллюминаторами проплывали мрачные создания, не описанные нигде, кроме скучных судебных документов»{38}.
Да и честный стряпчий, каким в глазах Бальзака являлся Гийонне де Мервиль, вернётся в «Полковнике Шабере» («Le Colonel Chabert») в образе адвоката Дервиля. Именно там, в конторе стряпчего Мервиля, одном «из самых отвратительных заведений на службе общества», молодой Бальзак постигал азы изнанки жизни.
«Роясь в делах, – замечает А. Труайя, – Бальзак знакомится с тонкостями судебной процедуры, от него не ускользают ни комические, ни горестные детали судеб неизвестных ему людей, перед глазами разворачивается роман с множеством действующих лиц, которые дышат и страдают. Никогда прежде не становился он свидетелем столь неприкрытой жизни. Иногда кажется, что сквозь выведенные каллиграфическим почерком строки доносится интимный запах каждой семьи, преследует его неотступно, словно приговоренного наблюдать за чужим существованием, будто он одновременно еще и эти люди и у него нет больше собственной судьбы. Целый мир набрасывался на него, словно кошмар»{39}.
К весне 1818 года первая ступень в его юридической карьере в качестве младшего клерка будет пройдена, и в апреле поднаторевшего в праве Оноре устраивают в адвокатскую контору друга семьи (а по совместительству – соседа по квартире) Виктора Пассе[11]. Здесь он окончательно научится оформлять и расторгать контракты, составлять завещания и виртуозно обходить «подводные камни» брачных контрактов.
В своём «Нотариусе» Бальзак писал, что после такой стажировки «…молодому человеку трудно сохранить чистоту: он знает изнанку каждого крупного состояния, видит ужасную борьбу наследников над еще неостывшими трупами, человеческое сердце, сжатое Уголовным кодексом»{40}.
Рано или поздно всё заканчивается. 4 января 1819 года Оноре де Бальзак становится наконец бакалавром права. Цель достигнута: он дипломированный юрист. И теперь, как полагала матушка, деньги сами посыпятся в карман его чёрного сюртука.
Только сам Оноре так не считал. Став юристом, он сделал для себя очевидный вывод: заниматься правом никогда не будет! Юристы, доктора и священники ведь не просто так носят чёрные одежды – это цвет траура. Так пусть это будет траур по его утраченным иллюзиям. С него хватит! С иллюзиями покончено раз и навсегда. Он станет… писателем!
* * *
Этот, без преувеличения, выбор по призванию Оноре сделал исключительно сам: с дипломом бакалавра в кармане он… отказался от юридической практики.
Позже в одном из писем Лоре Бальзак напишет: «Если я поступлю на должность, я пропал. Я стану приказчиком, машиной, цирковой лошадкой, которая делает свои тридцать-сорок кругов по манежу, пьет, жрет и спит в установленные часы; я стану самым заурядным человеком. И это называют жизнью – это вращение, подобное вращению жернова, это вечное возвращение вечно одинаковых предметов»{41}.
Разве человек с такими мыслями смог бы долго продержаться в конторе нотариуса или адвоката? Конечно, нет. Решено, он будет только писателем! Именно об этом новоиспеченный юрист и заявил своему отцу. Как ни странно, юноша встретил со стороны батюшки полное понимание.
То была первая победа юного Бальзака: он окончательно определился с жизненным направлением.
Мысль об отдельном жилье возникла у Оноре не на пустом месте. Ещё в 1817 году Французская Академия объявила литературный конкурс, в котором мог принять участие любой желающий. Вот он, шанс! И 4 августа 1819 года Оноре начинает жить самостоятельной жизнью в крохотной мансарде на улице Ледигьер.
Это был первый шаг к свободе, к которой он так стремился. И всё-таки юноша волновался. Отныне он оставался один на один с самим собой и своими мыслями. А на выходе через год-два должно было появиться нечто, способное перевернуть его будущее. Отпрыску отводилось ровно два года на то, чтобы затмить Париж, появившись в столице в ранге молодого и талантливого писателя. 120 франков в месяц, съёмная комната и запрет появляться в обществе – вот те непременные условия, поставленные «юному дарованию» строгим батюшкой. Согласитесь, не каждый день встречаются такие отцы. Впрочем, и дети тоже.
Хотя со стороны всё это выглядит несколько странно: действительно, стоило ли неискушенного юношу подвергать такому серьёзному испытанию? Но это, как уже было сказано, взгляд со стороны, тем более – из сегодняшнего дня. В те неспокойные годы не только в семье Бернара-Франсуа, но и в сотнях других европейских семей так было принято – отделять повзрослевшего юнца подальше от отца с матерью и привычного для него образа жизни, дабы тот познал изнанку общества на собственном непростом опыте, если хотите – на собственной шкуре.
Подобная постановка вопроса для нас с вами видится, безусловно, диковато. И здесь, пожалуй, следует согласиться с французами, относившимся к своим чадам столь «бесчеловечно»: такое воспитание являлось самой настоящей школой выживания, своего рода испытательным сроком для дальнейшей жизни, некой необходимостью для самостоятельного вхождения отпрыска в достаточно сложный человеческий социум.
Отныне Оноре приходилось надеяться исключительно на себя: как одеваться, чем питаться, а также лично планировать каждый собственный день. Это только кажется, что нет ничего проще – встал, оделся и пошёл. Неожиданно для себя юный «гений» столкнулся с сонмом проблем и забот.
Хорошо сидеть в тёплой и уютной комнате за письменным столом, а после, поработав и сытно отобедав, часа два-три крепко вздремнуть на свежих простынях. Именно так поначалу и представлялась Оноре самостоятельная жизнь.
Но реальность оказалась намного сложнее, скучнее и не столь романтична. Да что там! Самостоятельная жизнь предстала во всей своей обнажённости – с её жестокостью, цинизмом и опасностями. Например, легко рассуждать об обеде, когда в кармане громко позвякивает. Однако денег, высылаемых матушкой, хватало лишь на то, чтобы едва сводить концы с концами и не падать в голодные обмороки. Достаточно сказать, что хлеба как такового в убогой мансарде на улице Ледигьер никогда не было. Ибо имелись сухари. А всё потому, что эти одеревеневшие от времени хлебные куски стоили гораздо дешевле, чем свежий, ноздреватый и пахуче-дурманящий ломоть… Впрочем, не будем об этом. Как и о хрустящем круассане… Круассан! Он исключительно для богачей. Такой вкусный и буквально тающий во рту…
Ну так вот, если деревянный сухарь обмакнуть в разбавленное козье молоко, он становится мягким и податливым. И прикрыв в такие минуты глаза, можно увидеть, что ты ешь не чёрствый сухарь, а свежий пирог с яблоками, поданный в воскресный день к столу милой бабушкой. Да и круассаны… Нет-нет, только не о круассанах!
Если он обнаглеет и станет поедать свежий хлеб! и круассаны! – то очень быстро проест все деньги, предназначенные для насущных расходов. А это, поверьте, немало: одна ненасытная лампа для освещения сжирает три су[12] в день! Да ещё расходы на прачку, стиравшую рубашки, штаны и постельное бельё (два су); уголь для тепла (тоже два су); молочнице… торговцу кофе… и… и… и…
Этих «и» было слишком много, чтобы можно было справиться с ними одним махом.