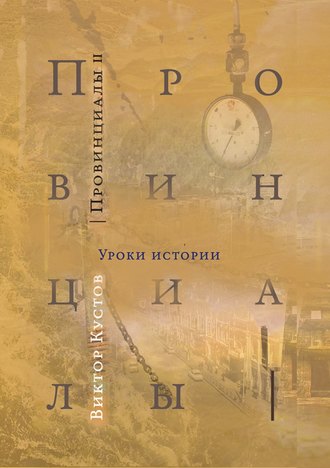
Виктор Кустов
Провинциалы. Книга 2. Уроки истории
Так и подмывало Черникова высказаться по поводу этой самой выдержанности, от которой на партийных собраниях тоска нападала и спать хотелось, но сдержался, не стал портить тому предотпускное настроение. Но и планы, естественно, никакие писать не стал, хотя в редакцию заходил даже чаще, чем надо было, чтобы завистники не донесли. В огромном пустом и непривычно тихом здании института на удивление легко писалось. И не только очерки и статьи в газеты, но и рассказы, которые он надеялся издать в каком-нибудь столичном издательстве.
А потом стал засиживаться с Юлей, готовить ее к вступительным экзаменам в университет, довольно быстро убедив, что ей нужно поступать именно туда, на журфак, потому что стихи она пишет отнюдь не графоманские, слово чувствует замечательно.
На всякий случай он выяснил, кто принимает экзамены, и не постеснялся зайти в горком партии к Коростылеву, чтобы он познакомил его с председателем приемной комиссии. Тот договорился о встрече по телефону, и Черников обстоятельно, упоминая авторитетные имена мэтров советской литературы и журналистики (хотя и сам уже был достаточно хорошо известен в здешнем профессиональном цеху), расписал моложавому и гладко зачесанному блондину с маслянистыми глазами и раздражающе улыбчивым лицом таланты своей протеже, читая в глазах председателя приемной комиссии, что не он первый обращается с подобной просьбой, отчего Черников становился все настойчивее, намекая на наличие еще более влиятельных покровителей, уполномочивших его на этот разговор. И в конце пообещал явно растерявшемуся председателю самолично приложить все усилия, чтобы девочка подготовилась как следует и непременно стала бы студенткой.
Он действительно прилагал усилия. И не только словесные, получая истинное наслаждение от неопытных поцелуев и расслабляющей его по-детски бескорыстной ласки. Юля уже давно готова была уступить ему, но он оттягивал это мгновение, стараясь дочувствовать то, что в своей молодости, увлеченный общественной деятельностью, не успел оценить по-настоящему, все куда-то спеша, торопя будущее…
Она сдала вступительные экзамены на четверки (хотя по сочинению они ожидали тройку, но председатель комиссии, видимо, хорошо запомнил ее фамилию) и была зачислена на первый курс факультета журналистики.
В день, когда это стало известно, солнечный августовский день, когда по набережной Ангары слонялись ошалевшие и еще не постигшие своего нового статуса бывшие абитуриенты, а точнее, в этот теплый, но уже с привкусом приближающихся холодов вечер, она на скрипящей кровати в его общежитской комнате стала женщиной. И, прижавшись к нему крепко-крепко, словно боясь, что после всего этого он может исчезнуть, долго слушала его размышления о жизни, об обществе, традициях декабристов, сохранившихся в этом на удивление культурном сибирском городе, о славной жизни целой плеяды революционеров, которые были сильны прежде всего своей идеологией, своей готовностью к поражению…
По-видимому, эта мысль пришла ему только что, и он стал ее развивать, все более и более загораясь, забыв о Юле, не зная, что она совсем его не слышит, а лишь наблюдает за его губами, вслушивается в его голос, впитывает запах его тела, одним словом, постигает его присутствие в себе как предвестие новой жизни…
…Эта мысль о готовности поражения как основном нравственном факторе, позволяющем революционерам не ценить свою жизнь, приносить ее в жертву во имя идеи, крепла с каждым днем, и осенью, когда коридоры вновь заполнились студенческим многоголосьем, а повзрослевшие и изменившиеся члены тайного общества собрались на свое первое заседание, он предложил им эту тему разработать, написав исследование.
Идея эта вызвала интерес только у Саши Жовнера, который за лето ощутимо изменился после преддипломной практики, стал немногословен и таинственно задумчив, словно приобрел некий неведомый остальным опыт. Очевидно, что Баяру Согжитову с его буддийским мышлением революционеры были непонятны и неинтересны. Володя Качинский, загоревшись вначале, скоро остыл, торопясь похвастаться своими новыми стихами, которые на самом деле не свидетельствовали о творческом росте. Леша Золотников и Лена Ханова нашли летом свои половинки и теперь излучали полную отстраненность от окружающей их и в прошлом, и в настоящем, и в будущем суеты. Горячо откликнулась Люся Миронова, явно разделяя подобную идеологию, но она не писала ни стихов, ни прозы, а была самой внимательной слушательницей и чутким критиком произведений своих товарищей.
Осилить половину списка, который весной составил для них Черников, смогли только она и Баяр. Приблизился к ним Жовнер, который сказал, что больше прочесть у него не было возможности, в библиотеке поселка Кежма, где он был на практике, нужных книг не оказалось, о многих там даже не слышали. Золотников и Качинский застряли на первом десятке, а Ханова, похоже, даже не открыла и первую книгу (это был «Золотой осел» Апулея).
Тайное общество «Хвост Пегаса», судя по всему, ждала участь множества подобных, распавшихся, так и не созрев до сплачивающей и вдохновляющей идеи. (И до той же самой готовности к поражению.) Но Черников, хотя об этом и подумал, вслух говорить не стал, отметив для себя, что теперь будет работать индивидуально, по степени заинтересованности и понимания каждым усвоенного материала… Так, как он делал это с Юлей, дополняя ей учебный план своими рекомендациями.
Жовнер за изучение этого секретного оружия революционеров – готовности к поражению, которое позволило им в итоге свою идею (пусть и благодаря усилиям многих поколений) реализовать, взялся всерьез и уже в октябре принес первый очерк о Радищеве, в котором аргументированно доказывал, что именно неодолимый и прагматичный пессимизм и позволил Радищеву столь смело, без оглядки на цензуру изобразить то, что он видел, путешествуя из одной столицы в другую…
В начале ноября он принес еще один очерк, о петрашевцах, уделив в нем немалое место описанию деяний Федора Достоевского, чудом избежавшего смерти, сказал, что уже читает сочинения Чаадаева, этого изгоя русского светского общества девятнадцатого века, и все, что написано о нем его современниками.
Но этот очерк Черников уже читал не в редакционном кабинете и даже не в своей комнатке в студенческом общежитии, а в комнате Юли, когда она с подругами ушла на занятия. На институтском отчетно-выборном комсомольском собрании он попросил слово и выступил перед делегатами самой большой студенческой организации в городе. Если коротко, суть выступления сводилась к следующему: пассивность и безразличие молодежи, которую он наблюдает, приводят к тому, что молодыми людьми, словно марионетками кукловоды, управляют большие дяди, сидящие в кабинетах и давно растерявшие революционный запал, большевистские традиции, изрядно подзабывшие, как выглядит идеал, во имя которого гибли деды и отцы. Каким же в недалеком будущем станет общество, которое строят прежде всего молодые?
– Я слушал отчет секретаря, хорошего парня, но абсолютно не способного вести за собой, выступления ваших товарищей и все надеялся, что услышу живое слово, дельное предложение, как нам изжить негативы, пассивность и безразличие. Но все как один старались угодить старшим товарищам, по-видимому, немало времени провели, готовя и выверяя варианты своих выступлений, приглаживая их так, чтобы никого не задеть. И прежде всего вот этих…
Он повернулся в сторону президиума, где в центре сидел ректор – широкий, с лицом-маской усталого трагика, блестя большими роговыми очками, скрывающими глаза. Рядом с ним, с каждым словом все более приподнимаясь на своем месте, возвышался так поразительно похожий на Горького после Капри, загоревший под южным курортным солнцем секретарь парткома. Готовый сорваться по первой же команде старших товарищей, занимал половину стула секретарь комитета комсомола, бледнолицый юноша с неприметным лицом, с которым Черникову пришлось общаться всего один раз, но и этого было достаточно, чтобы понять, насколько тот ограничен и послушен. И ему было жалко этого в общем-то безобидного парня и одновременно хотелось сказать о его неспособности руководить молодежью, в чем Черников, исходя из собственного, и как теперь было очевидно, серьезного опыта, не сомневался.
– В вашем возрасте или лишь немного постарше были в свое время те, кто вышел на Сенатскую площадь в декабрьском Петербурге.
Ваши сверстники готовили бомбы и устраивали акты возмездия против царских узурпаторов, не боясь каторги. Ваши деды в таком возрасте, как вы, и моложе сражались на фронтах гражданской войны, а отцы победили в Великой Отечественной. Им было не занимать смелости и понимания, за что они идут на смерть, во имя чего живут…
А что сделали вы?.. Я вас призываю: не мечите бисер перед… – он, не оглядываясь, протянул руку в сторону президиума и выдержал паузу.
– Берите власть в свои руки, управляйте институтом реально, как вы можете и хотите…
И сначала в гулкой тишине, а потом под яростные аплодисменты и даже под одобрительные выкрики, прошел на свое место в зале.
Бледнолицый юноша-секретарь тщетно призывал всех к порядку, но кто-то закончил фразу Черникова, подсказав, перед кем не стоит метать бисер, и это слово прокатилось по рядам, вызывая злорадный смех. Над президиумом возвысился секретарь парткома Цыбин, пророкотал неожиданно зычно, непререкаемо, вспомнив совсем недавнюю службу и всем своим видом показывая, что шутить не намерен и угроза об исключении из института за хулиганство будет осуществлена, и зал с недовольным гулом все же затих.
Цыбин произнес еще несколько зажигательных фраз, из которых следовало, что редактор их многотиражной газеты за время работы так толком и не сумел вникнуть в большие дела комсомольской организации, хотя, конечно, есть и недоработки, которые необходимо исправлять. Что же касается роли старших товарищей, то комсомол есть резерв партии, а партии принадлежит руководящая роль, и если каждый новобранец будет делать что ему заблагорассудится, строя не будет, армии не будет, победы не будет…
Через два дня в кабинете Цыбина Черников писал заявление об увольнении с работы по собственному желанию и заявление о выходе из коммунистической партии «в связи с тем, что не может оказывать соответствующую финансовую поддержку и делать полноценные ежемесячные взносы по причине отсутствия постоянного места работы». Потом сдавал комнату коменданту общежития, выполнявшему строжайший приказ выдворить жильца в течение суток, получал расчет, что заняло совсем мало времени. Передавать дела вновь назначенному редактором Диме Лапшакову, ошарашенному стремительностью собственного карьерного взлета, его не заставили.
…Пока были деньги, пожил в гостинице, наслаждаясь ничегонеделанием и возможностью каждый вечер вкусно кормить Юлю и получать ее успокаивающие ласки. Когда деньги закончились, пошел к Коростылеву, но тот сказал, что после всего происшедшего («Кто тебя заставлял партбилет отдавать? О чем ты думал?..») ничем помочь не может, вот только если Желтков… У него вроде ушла в декрет учительница литературы в старших классах, недавно жаловался, что не может никого найти.
Черников пошел к Андрюше Желткову (еще одному бывшему однокурснику), вернее, теперь уже к Андрею Павловичу, кабинет которого ему показали шустрые пионеры, не умеющие преодолевать школьные коридоры шагом. В принципе, оно так и было, потому что раздавшегося не только в плечах, но и в талии некогда заводного и смешливого Андрюшу без отчества теперь было трудно представить. Он даже чем-то напомнил Черникову его директора школы. Может быть, пронизывающим и одновременно невидящим, давящим взглядом.
Желтков сразу принял Черникова за родителя кого-нибудь из провинившихся учеников и только после первых слов хлопнул себя по лбу.
– Ах да, Коростылев мне говорил, что ты в городе… Ну, рассказывай…
Черников сразу взял быка за рога, с каждой фразой выражение лица Желткова менялось и, наконец, приняло устойчиво озабоченный вид.
– Да, Боря, наломал ты дров… У меня двоечники и хулиганы и то меньше вытворяют… – он постучал толстыми пальцами по крышке стола и после паузы произнес уже ожидаемое Черниковым: – Если бы ты партбилет не сдал… А так, не могу… Разве что факультатив вести, но это, сам понимаешь, – гроши…
– Ясно…
Черников направился к выходу.
Желтков заторопился следом.
– Ты же понимаешь, первый проверяющий из гороно – и мы с тобой оба полетим со своих мест…
– Я понимаю, – с улыбкой произнес Черников, стоя у двери. – Но я рад, что ты хотел помочь… А насчет факультатива подумаю.
– Надумаешь, приходи, – обрадованно произнес Желтков. – Уж тут-то я как-нибудь тебя прикрою…
В двух областных газетах на работу принимали редакторы. В партийной к Запятину, с которым у него отношения и так были не очень, к тому же тот был членом бюро обкома партии, а значит, просто не мог себе позволить совершить опрометчивый поступок, он не пошел, а вот к Жене Латышеву в «молодежку» заглянул. Тот, как всегда улыбчивый и не по-редакторски гостеприимный, напоил чаем, повосторгался его нашумевшим выступлением, поцокал языком по поводу выхода из партии и наконец предложил:
– Пиши под псевдонимом. И присылай письмами. А гонорар мы тебе будем перечислять на сберкнижку. Пока не догадаются, будем публиковать, а догадаются, так и я ни при чем, и ребята… Ну, выговор влепят за потерю бдительности…
И засмеялся.
Женя был хороший парень, но несерьезный. И тем более не революционер. Именно сейчас Черникову необходимо было, чтобы его читали, чтобы имя его не исчезло со страниц газет…
Он занял Черникову денег, сказав, что тот возвратит долг, когда сможет, еще попытался уговорить печататься под псевдонимом, получил нетвердое согласие и проводил до выхода из редакции, оживленно беседуя по пути, так что всем сотрудникам было очевидно, что Черников ни в какой не в опале, и с ним общаться можно.
Самым лучшим вариантом было бы уехать из Иркутска. Но он еще тосковал по Юлиным нелепым вопросам и искреннему восторгу при виде его, и он позвонил Дробышеву.
Дробышев встретился с ним на улице.
Они погуляли по-над незамерзающей, но обметанной льдистой кромкой Ангарой, и из приятельского разговора Черников понял, что и присылаемые ему из Москвы книги (среди которых были не рекомендуемые для прочтения и изъятые из общественных библиотек), и его опека тайного студенческого общества (все-таки есть стукач!), и выступление на конференции, и, наконец, выход из партии сложились в один логический ряд его диссидентства, когда речь идет уже не только о том, что ему не место в идеологических органах, но и в обществе…
– Загнал ты себя, Боря, в угол. И напрасно… – негромко говорил Дробышев, окидывая внимательным взглядом редких прохожих. – Кое-что в нашем обществе не соответствует идеалам, но в этом виноваты конкретные люди. Указал бы этого конкретного старшего товарища, покритиковал бы того же Цыбина, все было бы замечательно.
А ты огульно, на всех сразу…
– Вася, давай не будем устраивать диспут. Подскажи, что делать, тебе со своей колокольни далеко видать…
– Перспектив никаких, – жестко произнес тот. – Еще что-нибудь подобное выкинешь, пойдешь декабристскими тропами… Уезжай куда-нибудь…
– Не могу…
– Девочка держит? – хмыкнул он.
– И об этом знаете…
– Работа такая… Но ведь не жена, можешь и оставить…
– Считай, жена, – вдруг брякнул Черников. – Вот только Нина развод даст…
– В таком случае… – Дробышев подумал. – Устройся куда-нибудь слесарем, что ли…
– Какой из меня слесарь…
– Дворником, сантехником… Кем угодно, только чтобы не слышно и не видно было. Пока все забудется…
– Дворником?.. Слушай, а в твоем ведомстве на эту должность вакансий нет?
– Пошел ты к черту… Нашел время шутить… Между прочим, дворник жильем обеспечивается…
– Это я знаю…
– Ну так и подумай, я тебе угол не выделю… Тем более с молодой женой… На мели?.. – Дробышев стянул перчатку, достал из внутреннего кармана бумажник, отсчитал несколько купюр. – Возьми на первое время.
– Не знаю, когда верну, – помедлил Черников.
– Когда будут, тогда и вернешь, – сказал тот. – И все-таки, я бы советовал тебе уехать.
Они пожали друг другу руки и разошлись…
Черников шел по снежному городу в общежитие, где спал на полу между четырьмя кроватями, и все более понимал, что Дробышев прав, ему действительно нужно уезжать. Пока только из этого города. Подумал, что вот так же, вероятно, обкладывали Александра Солженицына, Виктора Некрасова, Георгия Вадимова… Только у него еще множество городов в этой стране, а у них была открыта лишь одна дверь…
И оттого, что он попадает в этот почетный для мыслящих людей ряд, настроение улучшилось. Страшно не хотелось чувствовать себя чужим в маленькой комнате, отворачиваться от переодевающихся Юлиных подружек, засыпать под их шепот, придерживая рукой опущенную Юлину ладонь и преодолевая желание непокорной плоти.
И он поехал к Асе.
Хотел просто выговориться и выспаться (а может быть, и проверить, не забеременела ли?), но опять они уступили плоти, и на этот раз он заснул с ней рядом на диване, договорившись, что некоторое время поживет у нее (чему она удивилась, но не обрадовалась).
Днем в университете он нашел Юлю, сказал ей, что ночевал у товарища и что на некоторое время уедет из города. Оставил ее растерянной и чуть не плачущей и пошел по городу, читая разные объявления.
Через пару дней он нашел место истопника в котельной, которое позволяло работать через двое суток на третьи (значит, будет время писать) и в перспективе светила служебная комнатка в старинном двухэтажном деревянном доме, как только оттуда выдворят предыдущего, спившегося кочегара.
Через пару недель того действительно выдворили на принудительное лечение, и он получил ключи. Последний раз предался связи со ставшей чересчур активной Асей (похоже, она действительно решила завести от него ребенка), пообещал ей не забывать, заглядывать, пока она не найдет себе постоянного сожителя, и занял пропахшую сивухой и табачным дымом комнату.
Пару дней выносил из нее мусор, драил, чистил и отмывал, потом раздобыл в комиссионке большую двухспальную кровать, колченогий стол, пару табуреток и перевез туда Юлю с ее немногочисленным скарбом и учебниками.
Уроки истории
В безмятежную и вполне счастливую жизнь Жовнера Черников ворвался гостем непрошеным, подобно лисе, впущенной в сказочную избушку неискушенным обитателем. Только избушкой этой было не строение, а накопленный Сашкой опыт и знания, которые в одночасье чужим суждением обидно обесценились.
Самоуверенность непризнанного писателя, не сумевшего устроиться в Москве, раздражала. Он мысленно посылал новоявленного учителя куда подальше, а с ребятами смеялся над его манерой поучать, над неглажеными брюками и застиранными рубашками, но отдавал отчет, что замечания, которые тот делал, редактируя его статьи, репортажи, очерки, были точны. Список книг, которые Черников им порекомендовал прочесть, почти полностью был ему незнаком, и даже в областной библиотеке он нашел далеко не все из него.
Сначала, исключительно из желания противостоять оскорбительным замечаниям об их инфантильности, а потом незаметно втянувшись, он стал запоем читать книги из этого списка, порой захватывающие и интересные, порой – непонятные и скучные.
Предложение проанализировать внутренний мир революционеров, найти подтверждение тому, что в основе их преданности идеи лежит готовность к поражению, показавшееся сначала довольно банальной задачей, вдруг захватило, открыв совершенно неведомый ему прежде пласт знаний. Этому его не учили ни в школе, ни на успешно сданных (и столь же успешно забытых) курсах истории КПСС, исторического материализма и научного коммунизма. И чем больше Сашка читал, тем больше понимал, что его представления об обществе, стране, в которой он живет, действительно примитивны и все еще остаются на уровне восприятия жизни ребенком, когда мир уютен, вечен и незыблем, потому что он закрыт от неприятностей и разочарований родителями, родными и близкими людьми, учителями, просто взрослыми, и единственное, что в нем является главным, – это любовь.
Он так и жил все эти годы до встречи с Черниковым постоянно влюбляясь, разочаровываясь и снова надеясь встретить настоящую любовь… И даже дневник стал вести, описывая свои переживания.
Может, поэтому набрался на втором курсе смелости и заглянул в редакцию, где его встретила Галина Максимовна, смешливая и уютная, совсем не похожая на редактора газеты. Она поняла его, поверила, неожиданно поручила взять интервью у декана. Сашка тогда долго стоял возле кабинета, преодолевая детский страх, но все-таки вошел…
Теперь об этом смешно и вспоминать, столько после первого интервью было встреч с людьми занятыми и известными. К тому же и публикации были в областных газетах, и в «молодежке» его хорошо знали. На факультете давно считали, что настоящего геолога из него не получится, хотя учился он неплохо.
При Галине Максимовне и появился «Хвост Пегаса», она сама с удовольствием с ними по вечерам спорила о сути творчества. Ей однажды принес Сашка и свой первый рассказ о том, как в зимнем лесу на лыжне встретились он и она… Совершенно неожиданно Галина Максимовна поставила рассказ в газету, и Лариска Шепетова (мнением которой он дорожил, помня ее рассуждения о стене между мужчиной и женщиной) даже польстила ему, обозвав писателем. И сказала, что Ольге Беловой рассказ тоже понравился, но только она удивилась, почему объяснение происходило в зимнем лесу, а не на берегу Байкала. Он догадался, что это было и признание, что та помнит их безумный вечер на первом курсе, и предложение повторить его. Он велел передать Ольге, что в следующем рассказе допущенную неточность устранит, вложив в эту фразу и второй смысл, но реализовать его так и не смог: встретившаяся ему как-то в коридоре Оля показалась какой-то невзрачной, неинтересной, и он не подошел к ней.
И еще: тогда он понял силу печатного слова…
Но рассказов больше не придумывалось, поэтому он охотно писал для газеты все, что требовалось.
При Галине Максимовне его материалы проходили практически без правки. Черников первую же статью исчеркал всю, оставив пару абзацев и сделав из нее информацию.
– Учись писать так, чтобы словам было тесно, а мыслям просторно, – изрек он истину и уже от себя добавил: – Не загромождай текст прилагательными и прочими красивостями, передай главное – емко и понятно… Люби глаголы.
Любить глаголы получалось плохо.
При Черникове он стал писать в газету меньше, ссылаясь на занятость, очерк о Радищеве перечитывал много раз, избавляясь от прилагательных, прежде чем показал редактору. Черников сделал совсем немного правки и поставил в номер.
После выхода газеты Сашка целый день наблюдал, как ее разбирают с подоконника напротив редакции, потом еще пару дней ждал, что кто-нибудь из знакомых оценит вышедший очерк, но так и не дождался. И не понял, читал его очерк кто-нибудь или нет, хотя Борис Иванович сказал, что он был отмечен журналистами «молодежки», а в университете его даже обсуждали на занятии студенты журфака…
Прочитанные книги, рассказывающие о перипетиях истории и общества, заставили по-новому взглянуть на то, что его окружало. Привычно невоспринимаемые ежедневные новости о трудовых свершениях стали раздражать. Лозунги и победные реляции на фоне очевидно пустеющих прилавков и растущих очередей за колбасой и другими продуктами вызывали ироничную усмешку. Ему все более казалось, что в государстве, в обществе что-то не так. Что декларируемая с трибун правда на самом деле и не правда, и, как в детстве взрослые скрывают от детей свои тайны, так и те, кто управляет страной, скрывают неведомые большинству и важные тайны от народа.
Прежде он не задумывался, почему песни Высоцкого повально переписывают друг у друга, а пластинки с его записями не выходят.
Как не достать и композиций «Битлов». И книг Сергея Есенина он не мог найти. И повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» он прочитал в «Новом мире», который ему дал Черников. («Больше теперь нигде не найдешь, Александр Исаевич нынче за границей, так что, считай, запрещенное читаешь…») А еще, оказывается, был такой писатель – Георгий Вадимов, который писал о трудовых буднях совсем не так, как большинство известных авторов, и его «Большую руду» он прочитал в один присест…
Простой мир вокруг Сашки неожиданно разбился на великое множество неодинаковых и порой даже противоречивых мирков и стал таким сложным, что он растерялся, потерял интерес к общественной работе (он был членом комитета комсомола института), к спорам в тайном обществе, даже к Маше Панкратовой, студентке химического факультета, с которой они познакомились в одном из туристических походов и теперь бурно и серьезно (он уже познакомился с ее родителями, живущими в Ангарске) дружили.
Попробовал поговорить на эту тему с Аркашей Распадиным, заглянув как-то в воскресенье к нему в гости, но тот был озабочен приближающейся свадьбой с Ритой. С Курейки, где теперь жили и его родители, срочно прилетела тетя Шура, Аркашина мама, и пока они пили кофе, она все суетилась по дому, находя занятие всем, включая занемогшего деда Филиппа, хотя свадьба была только через неделю.
Она передала Сашке посылку от родителей (пару белых рубашек с рюшечками и жабо), извинившись, что никак не могла сделать это раньше, сказала, что новостей у его родных нет, все ударно трудятся. А главной новостью, которую они с Аркашей даже пообсуждали, была та, что в поселке теперь живет их бывший одноклассник Колька Белкин. И работает в школе физруком. Приехал он с женой, которая старше лет на десять, с чужим ребенком. А директором школы стала Татьяна Ивановна Григорьева, их любимая физичка ТанечкаВанечка… У нее уже двое пацанов, Григорий Григорьевич заведует столовой, стал важным и в два раза ее толще.
Все это тетя Шура выпалила даже не присаживаясь и тут же напомнила Аркаше, что тот еще должен позвонить Рите. (Та, оказывается, уехала перед свадьбой к родителям в Улан-Удэ.)
Они вместе вышли на улицу, Сашка проводил Аркашу до переговорного пункта, и здесь, пока тот ждал соединения, немного поговорили.
Аркаша сказал, что так и не понял, любит он Риту или нет. Просто в начале лета она отдалась ему, стали вместе спать, а тут вот получилось, что забеременела…
– Ничего, после пятого курса в армию пойду, – сказал Аркаша.
– Не возьмут, – попытался успокоить его Сашка. – Маленький ребенок будет…
– А я сам хочу. Два года офицером, чем плохо…
– Смотря куда попадешь, – сказал Сашка, вспомнив, как перед весенней сессией в общежитии появились выпускники прошлого года, служившие в Монголии. В военной форме, с деньгами, совсем не похожие на тех пацанов, которые всего год назад разгуливали по общежитию. Неделю лейтенанты весело отдыхали, живя с двумя подружками не очень строгого поведения, щедро угощая всех знакомых. – В Монголии офицерские оклады неплохие…
– Не догулял я, – вздохнул Аркаша, откровенно разглядывая длинноногую девушку с кудряшками, стоящую напротив и тоже поглядывающую в их сторону. – Видал, какая краля…
– Ты уже почти папаша, – усмехнулся Сашка, – так что оставь ее мне…
– Нет уж, зависть съест, пусть одна уходит…
Сашка все же попытался ему высказать свои соображения по поводу нынешней жизни, но тот явно не был настроен на серьезный разговор, и они расстались.
Он засел писать о петрашевцах, мыслей становилось все больше и больше, ими он поделился на очередном заседании «Хвоста Пегаса», прочитав отрывок из начатого очерка.
В «Хвосте Пегаса» идею готовности к поражению как главный нравственный фактор мотивации поступков разделила с ним только Люся Миронова. Володя Качинский вначале тоже было поддержал, но потом заспорил с Люсей и стал убеждать ее, что это очевидная чушь, а двигало революционерами исключительно желание прославиться, остаться в истории, чтобы потом такие вот, как они, придумывали по этому поводу всякую чушь… В этом споре они наговорили друг другу кучу лицемерных комплиментов (напрочь забыв, с чего он начался), и очевидно было, что Володю интересует не истина, а то, что он может пообщаться с нравящейся ему Мироновой… Леши Золотникова и Лены Хановой не было, а Баяр Согжитов просидел весь вечер молча, загадочно улыбаясь, а потом прочитал свое стихотворение, написанное верлибром, о том, что все в этом мире, кроме природы, не заслуживает внимания человеческой мысли…
Было очевидно, что они все больше и больше расходятся по своим дорогам.
Выступление Черникова на конференции Сашка (он уже учился на пятом курсе и примерял новый статус инженера) воспринял с восторгом, бурно ему аплодировал и даже что-то выкрикивал по поводу свиней в президиуме. Ему не терпелось тут же взяться за перестройку рутинной заорганизованной работы институтского комитета комсомола, в котором царили скука и бумажная волокита, поэтому, кроме приторно-тихого и чинного Замшеева, в большом кабинете редко можно было кого-нибудь застать. А еще он вместе с другими кричал о свободе высказываний, критики, о сдерживаемой инициативе и бюрократии в комсомоле и призывал все менять. Но Замшеева, правда, уже не единогласно, но подавляющим большинством голосов, переизбрали. Он пообещал учесть все замечания и критику, и первые два дня после конференции действительно спрашивал у всех членов комитета их предложения по усовершенствованию работы (Сашка много всего предложил по изменению работы редколлегий стенной печати, за которую он отвечал), но эти предложения, подшитые в папку, канули невесть куда, и скоро все вошло в обычное неспешное, загруженное заседаниями и совещаниями русло…
Через пару недель Замшеев пригласил Сашку срочно зайти в комитет комсомола. В кабинете помимо него был невысокий плотный мужчина, незначительно старше Сашки, но с непроницаемо серьезным выражением лица.
– Игорь Игоревич Барышников, наш куратор из комитета государственной безопасности. Хочет с тобой побеседовать, – произнес он, настороженно глядя на Жовнера, заведомо допуская, что тот может стать предметом непредвиденных неприятностей, и оттого непроизвольно суровея лицом.
– Интересно познакомиться с молодым человеком активной жизненной позиции. К тому же часто выступающим в газете с серьезными статьями, – произнес тот, изображая дружелюбную улыбку.
– Мне выйти? – услужливо предложил Замшеев.
– Не нужно, мы пойдем ко мне…
Барышников пропустил Жовнера вперед, уверенно рассекая поток студентов, повел по коридорам в другой корпус, где на втором этаже открыл угловую неприметную дверь, пропустил его в комнату, в которой стоял стол, два стула по обе стороны, на столе – настольная лампа с металлическим полушарием плафона, а вторая половина комнаты была отделена черной тяжелой занавесью.







