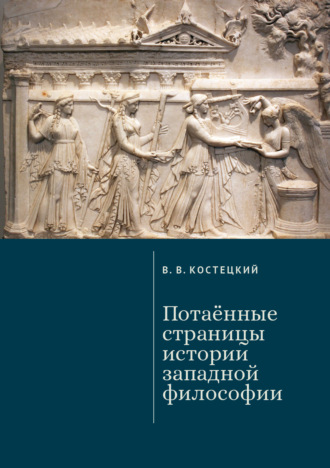
Виктор Костецкий
Потаённые страницы истории западной философии
Предисловие:
«Открывая тайные страницы философии Запада»
Когда вы беретесь за чтение монографии автора, то становится ясно, что это не просто книга, но и яркое собрание эстетических зарисовок творчества мыслителей прошлого. Вам предлагают путешествие по потаенным страницам истории западной философии. Как и каждое путешествие, оно сочетает в себе известные и ожидаемые восторги. Процесс передвижения в путешествии связан с неожиданными поворотами, странными случаями, непредсказуемыми встречами и радостью ожидания чего-то чудесного. Всё это при умном чтении представляет работа Виктора Валентиновича Костецкого.
Это неординарный труд. Что потайного находит автор монографии в известных философских работах? Его привлекает пересказ, неверно истолкованный (пересказанный) известными авторами учебников и монографий. К примеру, «прекрасный поступок» в этике Аристотеля не устремлен к наслаждению и удовольствию. Такая трактовка есть результат ошибочного пересказа цитаты из текста Аристотеля, вырванной из контекста. Прекрасный поступок благороден, и потому чаще всего трагичен. Сила духа становится «благом», если есть «люди чести». Прекрасные поступки служат основой воспитания при условии, по Аристотелю, что в ответ на прекрасный поступок у окружающих должна возникать эмоция радости. Если она не возникает, то у людей в их собственном духе нет совести, – об этом продолжит писать Сенека в своих философско-педагогических сочинениях.
Есть темы, которые в истории западной философии даже не представлены, например, «Эстетика улицы в ранней античности». Правда, есть упоминание в «Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали», Марии Оссовской (1969/1987), однако в специальных работах типа «Античная эстетика» Владислава Татаркевича (1977), или «Эстетика поздней античности» В.В. Бычкова (1981) проблема обойдена молчанием. Автор же работы обосновал тот факт, что улица была и сценой, и даже частью домашнего интерьера; это было «сакральное пространство», вызывающее восторг и всенародный патриотизм граждан полиса. Между тем, во всей исторической литературе все разговоры ведутся об «агоре». Именно через улицу раскрывается связь истоков западной философии со спецификой «полиса». Очень важно, что автор монографии показал культурологическое значение улицы в античности, ибо она располагала к общению на ходу, когда слушались рассказы путешественников: о войнах, болезнях, праздниках, религиях, о животных и растениях, об обычаях у разных народов. Новые люди повествовали новые истории и несли новые знания. Так возникла новая плеяда рассказчиков о природе – «фисиологи», складывался «образовательный досуг» («схолэ») – своего рода школа на свежем воздухе в свободное время. Что важно отметить, Виктор Валентинович показал, что в «эпоху архаики» миграции населения часто носили не этнический («родоплеменной»), а сословный характер. И соседние народы все без исключения были тоже разносословными «переселенцами». В разных типах культуры типы поселения были разными, разными были и «улицы».
Примером уникального рассказчика на улицах представлен Сократ. Школа Платона функционировала на спортивной площадке вокруг статуи Аккада, Аристотеля – в парке вокруг статуи Аполлона Ликейского, а Зенона – в галереях портика Пёстрого. Одна из причин «уличного» источника философии связана с тем, что улицы были благоустроеннее интерьера зданий, плюс доступность, публичность, зрелищность всех контактов. Когда городская жизнь была подточена кризисом семьи, а алчность до денег смела патриотизм, спасла улица: встречались, обсуждали, горевали, смеялись. Потом принимали сообща решения. Философия, наука, искусства появлялись по случаю, но замечались, приветствовались и вдруг становились общей культурой.
Далее автор работы касается проблемы Пифагора в истории философии. Этот легендарный мыслитель живет в устном творчестве, но его реальное влияние сказывается в платонизме, в христианской философии, в античной науке, в философии Гегеля и Ницше, в передаче учений «великих посвященных», в современных представлениях об «измененных состояниях сознания». В чем же его сила? Она в том, что Пифагор рвет связи как с мифологическим мышлением, так и с тривиальным рационализмом своих современников. После Пифагора рационализм логичен у Парменида; поэтичен у Гераклита. Пифагор синтезирует рецептурные знания Древнего Востока и юридической практики Запада в форме «доказательства». Так натурфилософия переводилась из атмосферы мастерских в атмосферу орфизма и дионисизма, за которыми, в свою очередь, скрывались рецептурные знания жрецов Древнего Востока. По утверждению автора, философия Пифагора реконструируется только с термином «экстаз», под которым понимается «смещение», или переход в «измененные состояния сознания». Но это не одержимость, мания, гипноз, камлание, транс; это – тактичность, вдохновение, настроение, воодушевление, катарсис, энтузиазм. Рядом стоят такие термины, как эмпатия, симпатия и синергия, т.е. «вчувствование», содействие. Связи человека и природы на основе симпатии и синергии выражаются физически в форме неустойчивого равновесия «в точках бифуркации», когда сколь угодно большие изменения могут вызываться и регулироваться сколь угодно малыми силами. При симпатических отношениях человека и природы случайность и информация объединяются на пользу человеку, порождая эффект «везения», «удачи».
Автор монографии вскрывает значение «бытия» в философии Парменида, подготовленного пифагорейским открытием иррациональности в геометрии и арифметике. В философии Парменида мгновение есть синтез бытия и небытия. Мгновение для людей есть такое настоящее, которое появляется, исчезая, а исчезая, появляется вновь. Дух парменидовской философии адекватно представлен у М. Хайдеггера («Бытие и время», «Время и бытие»). По утверждению автора монографии, Хайдеггер, как ранее Гегель, заново открывает понятие «бытие» в зимний семестр 1921–1922 гг. в лекциях «Феноменологические интерпретации Аристотеля». Правда, у него «бытие» есть «присутствие» – естественная дифференциация трансцендентного. В человеческом опыте «прошлое» и «будущее» сами по себе суть «небытие». Но парменидовское «небытия нет» наводит на мысль, что «прошлое» и «будущее» тоже есть («присутствуют»). Их «присутствие» Хайдеггер определяет, как «четвертое измерение» времени. Хайдеггер посчитал, что кроме настоящего, прошедшего и будущего есть еще четвёртое измерение, не зависящее от предыдущих трех. Его, собственно, открыл Парменид, назвав «бытием», «то, что есть». Суть в том, что с точки зрения «богов» все три времени видны одновременно. Это означает, что «времени нет»; вместо времени – «бытие». Суть философии Парменида в смене точки зрения. Понять его, не меняя кардинально «точку зрения», невозможно.
Автор работы выступает против традиционного изложения философии Платона наподобие обзорной экскурсии, в которой акцент делается на термин «идеализм», упуская из виду саму технику мышления. Платоновские «диалоги» предназначены для читательских упражнений в технике мышления. Для философии Сократа-Платона-Аристотеля фразерство софистов, публицистов и литераторов является ложным мудрствованием. Что же в наших знаниях, суждениях и утверждениях является действительным, а что кажется таковым? Для ответа на этот вопрос сформировался новый стиль мышления – философия.
Слово и знак в философии Аристотеля требует специальных исследований. Традиционно считается, что язык – система знаков и результат общения. Как утверждает автор монографии, Аристотель нигде не опровергает эту традицию, но её не придерживается. Когда Хайдеггер пытался разобраться с пониманием языка у Аристотеля, то высказался так: «Путь к языку как языку длиннейший из всех, какие можно помыслить». Под влиянием демокритовских трактатов Аристотель различает слово и знание, отличает мысль о вещи от самой вещи. Сама философия Аристотеля начинается с обращения к словам. А слово – знак? Для софистов да, для Аристотеля нет. Особенность философии Аристотеля в том, что мир он воспринимает как выставку, которая удивляет. Слово у него обозначает не вещь, а серию рассказов о ней. Знание по своему способу существования аналогично выставке, демонстрации. Логос, это знание от выставки. Слово зарождается через рассказы о некоей вещи-с-выставки. Именно по этой причине слово всегда картинно и предполагает визуализацию. Слово всегда больше, чем «язык». Это проявилось у Хайдеггера «артистичной герменевтикой» в сфере философской терминологии.
Продолжение тематики слова и знака прослеживается автором в трактате Аристотеля «Категории» – «манифесте аристотелевской философии». Здесь внимание направлено на ключевое слово, остающееся без внимания долгое время. Это слово «сказанное», о котором написал польский логик Ян Лукасевич (1878–1956) в работе «Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики». Взгляд Аристотеля на «знание» был свободен от сциентизма и восходил в общем виде к эстетике. Неясность «Категорий» и была связана с игнорированием идеологемы «сказанного». «Сказанное», «высказывающая речь», «утверждение и отрицание», – не имеют прямого отношения ни к речи, ни к языку. Это особая реальность (демонстрация), когда слово понимается через вещь, а вещь понимается через слово. Это возможно только в том случае, если слово не относится к знакам. И «метафизика» Аристотеля исходит из осмысления того, что «вещь всегда в слове, а слово-в-вещи». Здесь не смесь слов и вещей, а другое постижение «метафизики», как и философии языка.
Касаясь апологии гегелевской диссертации об орбитах планет, автор книги раскрывает истинный смысл этой работы немецкого классика. Защита предполагает диспут с авторитетом, которым избран И. Ньютон, с его «законом всемирного тяготения». Парадоксальная неприемлемость ньютоновской аналогии между движением планет вокруг Солнца и раскручиванием груза на веревке не требовала от Гегеля знания новейшей физики, или прозрений. Его критика имела символическое значение. Однако в рамках «философии природы» вопрос об орбитах планет касался качественного изменения физических процессов при смене их масштаба. Предполагаемая «Большая физика будущего» рассчитывала отказаться от привычной бессубъектности природы.
Проблема спекулятивности и языка в философии Гегеля рассматривается автором через анализ диссертация И.А. Ильина (1883–1954) на тему «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека»» (1918 г.). При этом ключом к диссертации выступает небольшая статья Гегеля «Кто мыслит абстрактно?», в которой Гегель уловил двойственность языка. В дальнейшем этот феномен разработали Соссюр, Шпенглер, Хайдеггер, Фуко и другие. Здесь трактовка «спекулятивности» реализуется с точки зрения «хорошего вкуса». В философии Гегеля вкус остается эстетической оценкой, о чем свидетельствуют категории в «Науке логики». В монографии тонко подмечено, что «Науку логики» надо считать логической проверкой действительности с позиции принципов «хорошего вкуса».
В представленной главе «Анти-лингвистика М. Хайдеггера: путь Аристотеля» автор оригинален и предлагает иной способ понимания языка. Классическими являются подходы, связанные с семиотикой и социальными отношениями, что совершенно недостаточно. Известна попытка М. Хайдеггера понять язык как «дом бытия». Для понимания языка важное значение имеет субъектность вещей, которая способна отделяться от самой вещи, трансформируясь в слово, в язык, в образ. Примером здесь выступает «секс по телефону»: вся феноменология секса оказывается в дискурсе. Признание сакральности языка очень важно для философии. Хайдеггер призывает понимать язык через поэзию, в которой усматривается интенциональность богов. Этнографы представляют важные материалы по трансовым ритуалам первобытных культур, как и исследования «измененных состояний сознания, которые способствуют исследованиям на «пути к языку». Показательны работы Станислава Грофа «За пределами мозга» (1985/1993) и Франклина Мерелл-Вольфа (187–1885) «Пробуждение в сверхсознании» (2009).
Прочтение доклада М. Хайдеггера «Время и бытие» с ироничным замечанием «вместе с Сократом» оригинально раскрывает как особенности, так и занимательности хайдеггеровского текста. Техника философской мысли не столько загадочна, сколько поэтична и следует традиции немецкой философии – изыскивать иные понятия для известных вещей. Сказывается его преклонение перед античным мышлением и греческим логосом. Начиная выяснять, что такое бытие, Хайдеггер ссылается на Парменида. Целью является не апология Парменида и Зенона, а изменение картины мира. Как показывает автор монографии, Хайдеггер обосновывает потаенную мысль: язык, время и субъект в своей онтологии совпадают. Смысл доклада «Время и бытие» не в том, чтобы чем-то обогатить концепции времени по примеру теории относительности, а в том, чтобы создать «доказательство бытия бога» самому себе. Нечто подобное было уже сделано Парменидом в онтологической монотриаде «бытие – ничто – творение».
Естественным продолжением рассуждений о языке становится расшифровка загадки Ф. де Соссюра о языке. Швейцарский лингвист говорит о философии языка парадоксальными тезисами, которые не вписываются в гносеологию западной философии. Язык есть система знаков, которые не аналогичны всем другим знакам. Он существует непрерывно, его не создавали люди. Признаки генезиса языка в самом языке отсутствуют, а имеются только симптомы видоизменения языка во времени и пространстве. Соссюр настаивал на том, что язык не возникает из общения. Автор монографии объясняет это тем, что язык возник не в результате общения людей на виду друг у друга, а в качестве письменности в культуре жреческой трансовой гносеологии ради записи рецептурного знания от «культурных героев». Именно в этих условиях язык есть письмо (предписание), а не речь. В разговорные конфигурации общения язык-письмо перешагнул благодаря промежуточной форме – жреческой поэзии в форме однообразных псалмопений.
Продолжая линию философии языка, автор монографии анализирует забытую рукопись русского филолога и социолога Д.Н. Овсянико-Куликовского об экстазе в языке и культуре. Мифологическое творчество привлекало его внимание несуразностями, в котором он увидел признаки патологической «логики», чередующимися иллюзиями и галлюцинациями – сумасшествием, экстазом. Экзальтация, достигаемая культовым ритуалом, потреблением наркотических веществ в рамках экстатического культа, продуцирует новое бытие человека, и эта экзистенция находит свое выражение в понятии духа. Однако, итогом транса-экзальтации становится визуализация способа разрешения проблем в жизни человека – здоровья, промысла, общения. Овсянико-Куликовский считал, что сохранение культуры трансовых ритуалов в наши дни проявляется в праздниках, ритуалах религии, искусстве, труде, досуге.
Важным аспектом рассуждений автора о «таинствах» истории философии и литературы является его «Аллюзия философичности в произведениях Ф.М. Достоевского». Отношение к творчеству Ф.М. Достоевского в философии далеко не однозначно, Так Н.К. Михайловский говорит о «жестоком таланте», а Бердяев считает, что до «Записок из подполья» Достоевский гуманист, а после – сверх-гуманист, аналогично сверх-человеку в философии Ницше. Внешнее славянофильство писателя импонирует читателям на Западе и в России. Л. Шестов считает все «идеи» Достоевского «накануне» (смысла). Достоевский как художник часто создает иллюзии идейности. Герои его произведения заняты «идеями» и «сплетнями», отражающими симбиоз чувственности и рассудка. Все это далеко от философии, о чём предупреждал еще в 1929 г. М. Бахтин в «Проблемах поэтики Достоевского».
Статья «Анти-Хейзинга: другая философия игры» касается феномена игры. Об игре известно достаточно много. О сути и сущности игры выступали литераторы, поэты, психологи, психиатры, педагоги, лингвисты, социологи, искусствоведы и философы. Возникшая концепция игры подвергается автором логическому и онтологическому, культурологическому и эстетическому анализу. Лингвистическая сторона проблемы в том, что семантика слова игра покоится между существительным и глаголом: играть можно не в игру, а игру можно осуществлять, мастерить. В плане содержания игра связывает между собой дурачество и серьезное творчество. В истории культуры феномен игры отсутствует в первобытной культуре и появляется уже вместе с цивилизацией. Социальная роль игры и её место в культуре связаны с нормами экстатичности.
Александр Блок писал: Есть игра: осторожно войти /Чтобы вниманье людей усыпить;/ И глазами добычу найти;/ И за ней незаметно следить».
Статья «Анти-Пирс: критика абстрактной семиотики» занята поисками причин, препятствующие её развитию. Автор спорно утверждает, что такой науки, как семиотика, нет. Однако, затем говорит, что на протяжении всей истории западной философии она неоднократно заявлялась и исчезала. В области семиотики по крайней мере насчитывается пять основных направлений развития.: концептуалистская теория (Э. Кассирер), формалистическая теория (Карнап, Гильберт), реалистическая теория (Гуссерль, Рид, Рассел, Пирс, Фреге, Гёдель), прагматическая теория (Пирс, Джемс, Дьюи), общесемантическая теория (Чейз, Кожибский, Хаякава). В них не ведется разговор об универсализации знаков. Все значительно сложнее. Однако авторское исследование «теории значения» Аристотеля, не совпадающие с устоявшимися трактовками, дает возможность говорить о том, что проблемы с семиотикой связаны с ложным включением языка в «систему знаков» и неверным отождествлением знака и сигнала по примеру Ч. Пирса.
Тезисы автора «Анти-Маркузе: оборотная сторона цивилизации» касаются проблемы безумия, связанной с цивилизацией. После работ З. Фрейда сексуальная проблематика в социально-гуманитарных науках стала проходной, как у Г. Маркузе «Эрос и цивилизация» (1955г.). Логика выстраивается просто: цивилизация не существует без труда; труд подавляет либидо, а либидо отождествляется с Эросом как «принципом удовольствия», «влечением к жизни». Эрос в трактате Г.Маркузе понимается абстрактно, как и труд. Однако, эрос в цивилизации имеет репрессивную функцию, а физический труд – психотерапевтическую. Г. Маркузе, предлагая выход цивилизации из тупиков «одномерного человека», настаивал на свободе эроса и сублимации труда в игру. Но именно это ведет цивилизацию к навязчивым идеям сначала в области эротики, затем к психологии массового безумия.
В заключении хочется отметить важность сочинений, подобных данной монографии, для умного чтения и умного обучения, а автора похвалить за смелость утверждений и широкую эрудицию.
А.С. Колесников, доктор философских наук, профессор, профессор кафедры истории философии Института философии СПбГУ
От автора
Существуют философские рассуждения, устные или письменные, которые можно ясно и даже красиво пересказать. Например, Платон замечательно и художественно пересказывал Сократа – или рассказал за него. Прошли века, а диалоги Платона тоже можно пересказать, в том числе с корректными пояснениями «от себя». С Аристотелем этот номер в большинстве случаев не пройдет. Добавленное «от себя» будет, как говорится, «отсебятиной». Пересказать Г. Гегеля часто тоже не очень удаётся: возникает ощущение, что всё у Гегеля перевернуто с ног на голову (классики марксизма). Существуют и более крепкие выражения в адрес текстов Гегеля, неподдающихся пересказу: «пьяные спекуляции» (Л. Фейербах), «шарлатанство» (А. Шопенгауэр), «бормотание визионера» (У. Джеймс). Пересказывать М. Хайдеггера тоже будет занятием не благодарным в виду его «артистичной герменевтики» (Т. Васильева). Варианты философских рассуждений, которые не удается пересказать, не перевирая (прошу прощения за прямоту), я буду именовать «потаёнными страницами».
Конечно, потаенные страницы философии могут раскрыть свои смыслы, только в каждом отдельном случае требуется индивидуальный способ чтения. Чаще всего требуется иное прочтение ключевого термина в отдельном фрагменте текста, который есть, но неизвестно какой. Возможны и иные случаи, когда, например, фрагменты текста сохранились в виде цитат, но в цитатах ключевые термины отсутствуют. Возможно, когда в тексте ключевой термин определяется только по контекстам, причем, каждый раз по-разному. Например, понятие «дух» в философии Гегеля предполагается понятным при определенном способе образованности читателей. Кому изначально не понятен «дух», тому Гегель не желает его объяснять. Аналогичным образом Аристотель не счел нужным пояснить, что он понимает под «категориями».
У скептиков возникает закономерный вопрос: если существуют тексты, которые специалистам столетиями не удавалось понять, то кто из ныне живущих может претендовать на их понимание, с какой стати? По поводу такого рода вопросов иронизировал Ф. Ницше в своем трактате «О пользе и вреде истории для жизни»: дескать, все великие мыслители, полководцы, художники, пророки были исключительно в прошлом; куда нам сирым. Ситуация была знакома даже Сократу, которому современники адресовали тот же упрёк. Сократ нашёлся, обращаясь к тем, кто желает у него учиться мудрости: «Слушайте не меня, а того, кто во мне говорит с вами». На эту тему есть известная восточная притча. Два китайских монаха наблюдают в дворцовом пруду золотых рыбок. Один монах восклицает: «Как счастливы эти рыбки!» Второй задает вопрос: «Откуда тебе знать, счастливы ли они, ведь ты не рыба?» Первый в ответ замечает: «Откуда тебе известно, что мне дано знать – ведь ты не я».
Если говорить серьёзно, то методология науки не сводится к опыту. Есть формы познания, когда знание «приходит само», – к тем, кто готов к нему. Сократ полагал, что сверх-опытное знание приходит от «даймона» («гения»), что внутри души; Пифагор полагал, что знание приходит «сверху», с «космоса» (современный вариант: с «ноосферы»). Атеистам нравятся интуиция и подсознание.
Вопрос о том, откуда приходят к отдельным субъектам новые знания в виде идей, формул, технических решений, музыки, поэзии, религии, – по сути дела праздный. История человечества убеждает в том, что такой факт имеет место, – и это главное. Все технические и медицинские знания древних цивилизаций имеют вид «рецептов». На египетских математических папирусах методом решения задач были приказы: возьми то-то, делай так-то; в итоге вывод: «Молодец, ты нашел правильно!». И нет ни одного папируса с попытками вывода, пояснений, обоснования, тем более доказательства. Знание дано в виде готового рецепта «делать как» с достаточной степенью точности. Кем дано? Этнографы вынуждены вникать в мифы о «культурных героях» – эвфемизмы тех же «даймонов», «гениев», «энтузиастов», «шаманов», «пророков».
В истории философии, как часто бывает в истории, без готовности к «феории» (теории – созерцанию не глазами, а «умозрительно») делать нечего. В истории, по замечанию Новалиса, «чем поэтичнее, тем истиннее». Современные историки больше верят криминалистике, чем поэтике. Между тем, Аристотель писал. что «поэзия философичнее и серьёзнее истории. Ибо поэзия больше говорит об общем, история – о единичном» [Аристотель, 1984, с. 655]. В отношении аристотелевского философского языка есть замечательное наблюдение филолога и философа Т.В. Васильевой о том, что при переводе «Метафизики» переводчики испытывают «трудности, в известном смысле аналогичные тем, которые испытывают переводчики стихов» [Васильева, 2008, с.194]. Соответственно, если один и тот же философский текст читать «исторически» и «поэтически» одновременно, то возможны те самые когнитивные моменты, когда знание «приходит само». Девиз Архимеда «Эврика!» вполне уместно иногда брать эпиграфом к собственным работам.
Тексты монографии составлены из отдельных статей, ранее опубликованных в разное время в разных научных изданиях. Естественно, что возможны повторения, за что автор приносит извинения строгим читателям. Все статьи в монографии разделены на три части. В первых двух частях речь идет о тех «потаённых страницах» великих мыслителей, которые при пересказе выглядят почти нелепыми. В последней части, напротив, речь идет о произведениях, в которых читателю внушается вера, что перед ним великое произведение великого ученого, что не соответствует реальности. Большими мастерами внушения «науки» были такие обаятельные персонажи, как Й. Хейзинга, Ч. Пирс, Ф. Энгельс. Внушению поддавались миллионы образованных людей.
При подготовке монографии автора побуждало к историко-философским исследованиям личное убеждение в том, что «реконструкция» странной точки зрения, как правило, не имеет никакого отношения к «интерпретации». Чужая точка зрения, тем более чуждая известным «нарративам», не познаваема, но узнаваема. Как узнаваема речь при всех пороках дикции, как узнаваемы персонажи при всех карикатурных трансформациях. Яркую точку зрения не могут испортить не только плохие переводы с языка на язык, провалы в тексте, но даже полное отсутствие текстов. Единственное условие – не надо заниматься «интерпретацией». Конечно, всегда найдется такой читатель, особенно считающий себя профессионалом, который заявит: «У вас тоже интерпретация. Вы меня не убедили». Однако, надо понимать, что не всех можно убедить даже в очевидном. Полезно вспомнить известный исторический анекдот. Киник Диоген решил занять большую сумму денег у самого жадного жителя города. Естественно, что тот оказался в трудном положении. Отказывать знаменитому человеку не хотелось бы, а давать денег жалко. Скряга решил выйти из положения просьбой: «Ты убеди меня, что нуждаешься в деньгах». Диоген ответил шуткой: «Если бы тебя можно было убедить хоть в чем-то, я убедил бы тебя удавиться». После И. Канта появилось много философов, которых невозможно убедить в том, что не всякое знание – интерпретация. Между тем, если знание настоящее, оно узнаваемо при любых деформациях – подобно лицу человека при всех изменениях возраста, при шаржах и карикатурах.



