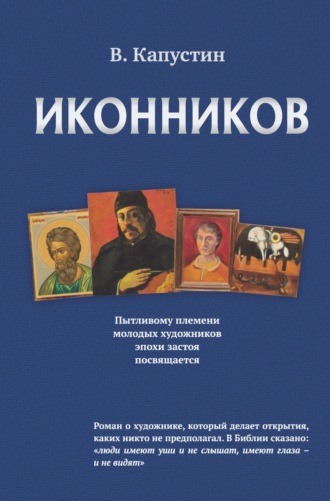
Виктор Капустин
Иконников
Мы с Катей сидели на лавочке в тени жасминового куста и разговаривали. Она поворачивала разговор к Москве, я уклонялся – не хотелось будоражить воспоминания.
– Вы удивительный человек, – говорила Катя. – Сколько Вас знаю, а Вы ни разу не заговорили о Москве.
– Зачем? – пожал плечами я.
– Вам, вероятно, не хочется говорить о Москве, что там у Вас – невеста? – Я увиливал, как мог. Катя выломала из жасминового куста сухую ветку и стала что-то чертить на песке.
– А скажите, правда ли, что Москва стоит на семи холмах? – сказала она и нарисовала семь разных холмиков.
– На восьми, – отмахнулся я.
Катя хихикнула и нарисовала восьмой холмик.
– А что, на восьмом Ваш особняк и в нём дожидается Вас невеста?
Пришлось объяснять, что, сколько помню себя, у меня не было особняка, а тем паче в нём невесты. И потом, зачем идеализировать жизнь? Ведь кто нынче кого дожидается, разве мёртвый мёртвого?
Катя недовольно закусила губки, наконец, сказала.
– Вы, наверное, имели печальный опыт измены?
– И не одной!
В этот момент появился Цдзян. Его дорожный плащ был запылён. В его глазах сосредоточилась грусть. Вот вам свеженькая иллюстрация к сказанному: не надо идеализировать жизнь!
Как оказалось, только что в соседнем селе у него на глазах скончался юноша имеретин, которому он не сумел помочь. Катя быстро наложила на себя крест. Она, как выяснилось, этого юношу хорошо знала.
Завели разговор на отвлечённую тему, но Цдзян молчал и только расхаживал по дорожке сада и перебирал руками чётки.
Цдзян, бедный Цдзян! Как он переменился в последнее время, и смерть несчастного юноши только добавила ещё один суровый штрих на его лице. Его и без того малоподвижное аскетическое лицо стало более твердым, движения – более резкими и на манер подростков угловатыми. Его складки на лбу стали чаще сбегаться у переносицы и опускаться в уголках рта. Его ум стал более холоден, а улыбка – детской и беспомощной: посмотрит в глаза, как будто душу вытащит. Его одолевает изнутри какая-то забота и, кажется, я знаю, что тому виной.
Мы вновь уселись с Катей под жасминовым кустом и продолжали ворковать. Цдзян, видно, довольный этим, скрылся в подвале и появился оттуда не более, не менее, как с… бутылкой вина! Меня это очень обрадовало, но и удивило. Цдзян расхаживал по саду с этой бутылкой вина, видно, воображая себя страшным пьяницей, конфузился при этом, хотя и старался придать себе победоносный и торжественный вид. Наконец, поймав мой неодобрительно-испытующий взгляд, произнёс:
– Вот и Вы, наверное, удивлены, что Цдзян – пьяница, и не ожидали у него увидеть такой бузы?
– Не ожидал, – чистосердечно признался я.
Тут же под жасминовым кустом накрыли на стол.
– Видите ли, – продолжал он, – я не ханжа, а в каждой семье есть кругленькая дата. Ровно четырнадцать лет, как мы вернулись сюда из дальних странствий. Кате тогда было четыре года.
Я посмотрел на Катю, она покраснела (А-га! Значит, Кате – восемнадцать!).
– Но даже не в этой дате дело, а дело в том, что Катя взрослая… – Он запнулся, как бы переводя дух, как тяжеловоз, везущий тяжкий груз в гору: – Вот и выпьем за то, что Катя взрослая, – закончил он неожиданно.
Было понятно, что Цдзян волновался, а вот за что мы пьем, я так и не понял, может, за то, что Кате пора замуж? Уж не за меня ли?
Хе-хе!.. Иконников, ты после шестиградусной бузы городишь что-то не то! Винцо оказалось действительно шестиградусной бузой, и я вместо одной рюмки выпил две.
13-го августа
Вы стояли когда-нибудь под ледяным водопадом, хотя бы несколько минут? Разумеется, вам я не желаю смерти и не призываю нестись во все пятки под первый же ледяной поток. Бешеный поток несётся навстречу вам, стараясь вас сшибить с ног и превратить в лепёшку. Это одно из любимых занятий моего Учителя. Каждый день в парусиновых шортах и с кувшином на голове он отправляется в путь. Там, на вершине горы, есть Чёртова седловина, через которую, дробясь и разбиваясь, несётся бешеный поток. Поток воды так быстр, и температура воды так низка, что, несмотря на незначительную ширину, его «убойная сила» такова, что этого достаточно, чтобы остаться погребенным под ним. Мой сенсей[10] проделывает этот путь каждый день уже 14 лет. Это, похоже, для него ритуал, как для японца восхождение на Фудзияму. Нынче мы с ним разделись донага и стояли, кто сколько смог, подняв лицо и руки вверх. Со стороны, наверное, можно было подумать, что это сумасшедшие или своеобразный ритуал таинственной секты йогов-респов. Во всяком случае местное про-тибетское божество, которое притаилось в этот момент в кустах, должно быть нами довольно.
Сколько чудодейственной силы в ледяной воде! Вы, конечно, догадываетесь, что я простудился и почти что слёг. К вечеру меня начало знобить и выламывать суставы с такой силой, как будто меня начали колесовать. Мои щёки запылали и, по обыкновению, заложило горло. Я слегка переборщил, отправившись под ледяной душ. Мой сенсей осмотрел меня, как заправский доктор. Затем вывел меня на широкий двор, усадил на стул, поставил ноги в таз, налил в него ледяной воды, а другим таким же тазом ледяной воды начал меня окатывать с головы до ног: так пять раз.
Затем заставил пробежаться по двору раза два. Через часок озноб пропал, а через два я уплетал груши из того самого таза необъятной величины. Я свеж и молод, как голубой подснежник. Браво, Учи тель!
Странное дело: по всем признакам я должен был простудиться и не простудился, я должен был слечь в огне лихорадки и не слёг. Это похоже на колдовство. Но не странно ли и вот ещё что: пока отец колдовал надо мной, быть может, вырывая из лап смерти, его дочь на другом конце двора смеялась… Чему? Вот все женщины таковы! Я обратил внимание, как она обирала ветки сливы, которые склонялись до самой земли, и улыбалась! Это раздражающе подействовало на мои нервы. Я подошёл.
– Быть может, Вам припомнилось что-нибудь смешное? – поинтересовался я, ещё подрагивая от холода.
Катя взглянула на меня, чтобы убедиться, не злюсь ли я.
– Нет.
– Тогда я не понимаю Вас, – сказал я (действительно, не понимая, что это смешно, когда на голову больного человека льют ледяную воду).
– Это действительно смешно?
– А Вы взгляните на себя в зеркало, – отвечала Катя, еле сдерживая хохот.
Я не поленился и взял зеркало: обычный замёрзший человек, чему тут улыбаться?
– Но Вы не взглянули сюда, – она указала на мои выдвинутые вперёд челюсти и оттопыренные уши, точь-в-точь как на одном из фотографических снимков Сальвадора Дали.
– Но не огорчайтесь, – проговорила она ободряющим тоном, – всё пройдёт, Вы же не собираетесь стать специалистом по тумо. Впрочем, у Вас есть ещё завтра шанс стать покорителем Гималаев…
Видно, я действительно слишком замёрз и не нашёлся, что ответить. Зато дал себе зарок никогда больше не бахвалится под ледяной водой, а тем паче под леденящим душу горным водопадом.
14-го августа
Похоже, мой Учитель захватывает меня в свою орбиту, говоря космическим языком, и начинает оказывать влияние, как полная луна на поспевающую рожь. Вы скажете: а что же раньше – рожь не поспела или луна была не слишком полной? Вам легко смеяться. Мой Учитель оказывал на меня влияние и раньше, но не так, то было, так сказать, абстрактное влияние, не подкреплённое практикой, а это – факт, начнём с того, что я бросил курить. Как я это сделал, расскажу чуть позже. Пока же расскажу, чем я был занят не далее утра этого дня.
Теперь по утрам, когда вечерний сумрак едва сползает с гор, я вскакиваю, как оглашенный, и бегу – куда? Вот в том-то и вопрос, если б я знал куда. По пути я делаю специальные дыхательные упражнения, машу руками, как скрипучая ветряная мельница крыльями, и переворачиваю камни. Один трёхпудовик нынче мне свалился на ногу…
Судя по тому, как чёрный юмор просачивается между строк, а вместо точки мне хочется поставить кляксу, вы, наверное, догадываетесь, что я не в духе, и есть отчего! Нынче я имел несчастье встать в три часа утра не с той ноги, а через час другую ногу мне отдавил проклятый камень: теперь припадаю на обе…
Ох, характер, как сказал бы мой сенсей, – кипяток. Кстати, два слова о моём характере, его надо лечить. Он, как море, на котором постоянно зыбь, пусти по такому морю суда, и оно покалечит не один корабль. Но это так – метафора…
Теперь о том, как я бросил курить. Экое горькое удовольствие – табак, и как он привязчив, как прошлогодний репей к хвосту лошади, знает всякий курильщик, а вот сколько без этого удовольствия можно обойтись? Я не думал, что продержусь больше суток. А вот поди ж ты…
Однажды – дело было к вечеру – мы с Учителем пошли гулять. Был слегка прохладный, но ясный вечер. Горы были окутаны полусном. По небу плыли холодноватые облака и бросали на землю голубые тени. Глядя на ясные и лаконичные в своих очертаниях, а может быть, и желаниях, вершины, хотелось мечтать. Солнце садилось, летали стрекозы, трещали кузнечики, казалось, чего бы ещё желать? Мы шли по так называемому Бабьему карнизу небольшой скалы, по узкой тропке, по которой, наверное, ходят на водопой серны. Я шёл впереди. Учитель сзади. Я попыхивал трубкой и от души бросал кольца за спину, должно быть, прямо ему в лицо. Учитель щурился, отмахивался от дыма, как от надоедливых ос и, видно, решил про себя с этим кончить. Когда я заговорил с ним, он промолчал. Я не полагал, что он затаился, как огонь, чтоб в подходящий момент вспыхнуть, и молол какую-то чушь. Он, казалось, не слушал меня, вдруг перебил и с жаром заговорил про азиатских женщин, затем неожиданно перескочил на лошадей. Он говорил про их аллюр, длинные ноги, крутые бока, лебяжьи шеи, чёрные глаза и проч., и вообще можно было подумать, что он продолжает говорить про женщин.
– Ах, что за лошади есть у азиатов, – говорил он. – Была тут одна, как сказал бы поэт, по всей Кабарде такой не сыщешь: по ножкам можно было выправлять струнки. А глаза! Чёрные с поволокой, за одни глаза иной черкес её поцеловал бы в губы.
– А где она теперь? – спросил я, невольно поддавшись его течению мыслей.
– Пала на табачном поле!..
Наконец, до меня дошло, куда он клонит.
– Ах, вот Вы о чём? – сказал я, принуждённо зевнув. – Это Вы к тому, что чтобы убить лошадь, достаточно капли никотина?
– Вот именно! Не хотите бросить курить? – сказал, посмеиваясь, он.
– Хочу, – сказал я, не подозревая, что уже бросил.
Он остановился, посмотрел на меня каким-то длинным, как моя последняя затяжка, взглядом и начал выбирать среди разнотравья какую-то особую свою травку, наконец нашёл и подал мне:
– Съешьте.
Я пожевал: ничего особенного, но ничего более мерзкого в моём рту не было, это даже не полынь – горче. Я скривил ужасную гримасу. Учитель улыбался.
– Это ваш женьшень, – сказал он. – Когда захочется курить, ешьте вдоволь, и пройдёт охота.
И что вы думаете, прошло три дня, а табака мне и на дух не надо[11].
Как я уже сказал, прошло три дня, а табак мне и на дух не надо. Трубка и кисет сиротливо лежат на подоконнике, завёрнутые в целлофановый пакет, и дожидаются своей участи: надо б хорошенько вытряхнуть кисет и пустить на тряпки, а с трубкой сделать натюрморт.
Не скрою, я несколько подавлен тем обстоятельством, что кроме табака и писания красками мне больше нечем заняться. Ведение этих проникновенно-занудных записей, разумеется, не в счёт.
По странному стечению обстоятельств я в доме один. Цдзян чуть свет ушмыгнул в горы. Он это сделал замысловатым образом, как будто его похитила нечистая сила: двери снаружи и изнутри остались назаперти… Катя более вежливым способом последовала за ним. Открою маленький семейный секрет: Катя занята прополкой капусты, а учитель – сбором редкостных лекарственных трав и корней. А я предоставлен самому себе. Как видите, каждый нашёл занятие по душе.
В доме таинственно и грустно, и, как перед пришествием Антихриста, темно. Я занят тем, что расхаживаю по пустым комнатам, снимаю и вешаю акварели, на масляной живописи ставлю дату, посматриваю в окно и зеваю: скучно. Предчувствия такие, что по мне где-то звонит колокол или, по крайней мере, справляют поминальную молитву. Быть может, я предчувствую: этой тибето-кавказской катавасии – конец, и мечтаю о Москве? Ничуть.
Боже! В каком страшном месте мы живём, в столице нашего государства! Почему я не родился в этих местах, как мой Цдзень? Почему я не люблю своё тело и душу, как мой Цдзень? Почему я не любуюсь каждый день своей походкой и раскрепощённостью души? Почему я не любуюсь каждый день этим великолепным пустынным пространством до самого горизонта? Почему не ковыряюсь на грядках, выращивая фасоль и сельдерей? Почему, наконец, я так глуп, что служу проклятым музам, забывая о том, что по временам моё тело отказывается служить мне! Есть отчего до времени состариться и превратиться в согбенного старикашку.
После такого невразумительного монолога можно подумать, что автора после незнакомой травы припёрло в нужник или он свалился в пропасть. Хочу вас успокоить, автор не съел незнакомой травы, не сорвался в пропасть, и кости его целы. Просто нынче по дороге в лес мне почудился отдалённый гул. Гул то приближался, то удалялся, наконец исчез – пролетел самолет, и волны цивилизации докатились до меня. Я долго глядел на бело-розовый шлейф, оставленный в небе, и подумал о Москве (заметьте, первый раз за время моих блужданий здесь). Я вспомнил Москву, её загазованные и грязные улицы, её Чистые пруды и нечистые прудики, её устремлённые в никуда кремлёвские звёзды и осиянных ими паралитиков-вождей. Я вспомнил эту нашу национальную недвижимость, музеи и дома, и возле каждого из них – по два мента. Одним словом, я вспомнил этот, как говорится в просторечии, каменный мешок, и в этом мешке, как зерна, перетираемые медленно в крупу, – люди. «Боже мой! – подумал я. – И это столица евразийского государства, через которую ведут „сто тысяч троп“. Ну что за райский уголок для того, чтобы спуститься с Эвереста и умереть? Это же тупиковая ветвь цивилизации – мегаполисы, подобные Москве. Как можно это не видеть! А ведь многие из нас убеждены в обратном и принуждены всю жизнь прозябать в этом цивилизованном захолустье, в этом цивилизованном шалаше, да ещё цвести райскими цветами… грустно».
После такого теперь уже дважды невразумительного монолога мне трудно объяснить читателю, что это лишь эмоция. Мне трудно объяснить, как и откуда ко мне иногда приходит эмоция и уносит мой ум на всех парусах. Как известно, эмоциональным и бесстрастным сразу быть нельзя. Поэтому мне часто приходится выбирать то или другое.
Нынче я, кажется, всё перепутал и вместо крепкого дилижанса la logique[12] сел в ореховую скорлупу pabsurdite[13], чтобы унестись к… фене.
16-го августа
Но вернёмся к Цдзяну. Неблагодарное занятие делать поспешные выводы о человеке, как бы это сказать, нестандартном и стараться втиснуть его в заранее приготовленные рамки. Неординарная личность более всего не выносит клетки, даже золотой. Это особо я бы отнёс к своему Учителю. По временам его можно было принять за чудака, вздумавшего перевернуть рычагом мир, а по временам – за оборванца, по временам он смахивал на буддийского монаха, а по временам – на лодыря. «Ну что, например, – думалось поначалу мне, – вот здесь не раскопать грядку», – и я глазами отмеривал площадку вместо того, чтобы часами жмуриться на солнце и лежать бревном на лавке, сколоченной из сучковатых жердей. При этом сучки их вонзались глубоко в тело. Особенное внимание он, видимо, уделял пояснице и запястьям, на месте их виднелись даже вбитые гвозди. А однажды он уселся на громадном камне близ горы, на нём был бело-розовый халат, на голове сияла, как нимб, шляпа, ну прямо ботхисатва. Стащить его оттуда не было никакой возможности. Так весь день до самой темноты он просидел торчмя. Только к полуночи я услышал, как скрипнула дверь, и в сенцах засуетилась знакомая фигура. А, Учитель…
17-го августа
Утром я проснулся, точно от толчка в бок, от лая собаки и незнакомых голосов. Я приподнялся на постели и выглянул в окно: двое в чёрном стояли у калитки и звали хозяев.
– Ашог, ашог, – кричали они, постукивая палкой о металлический предмет, повешенный, видимо, для этих целей.
Постукивания продолжались не менее 10 минут. Наконец это стало мне надоедать. Я выскочил из дома, как из куста крапивы, на ходу натягивая брюки.
– Да что, наконец, случилось, – сказал я сердитым тоном.
– С женой у нас очень плёхо, – отвечали они в два голоса.
– С какой женой?
– Нашей.
– Да что у вас на двоих одна жена? – съязвил я.
– Одна, одна, – запричитали они, по-видимому, не поняв вопроса.
Впрочем, о тонкостях моногамии некогда было рассуждать, по-видимому, надо было спасать женщину.
Повелось же на праведной Руси, да и на Руси ли только, если не идут к доктору, то идут к шаману или колдуну.
– Хозяина нет дома, – сказал я.
Они недоверчиво слушали меня, переминались с ноги на ногу, махали головами и не знали, как поступить: то ли верить мне, то ли поворотить обратно. Наконец кое-как успокоились и изложили суть дела. С их женщиной, по-видимому, случился удар, а далее начали твориться совсем непонятные вещи, по-видимому, психоз или истерия. Тут они начали свой длинный рассказ, от ужасных подробностей которого я избавлю читателя.
– А что ж доктор? – сказал я.
– Ай, какой дохтор, – замахали руками они. – Был мулла, велел хоть на аркане, а притащить «китайца», да и сама больная ещё с вечера посылала за ним, ей вынь да положь, подавай ашога.
– Хорошо, – сказал я, – я ему передам.
Они с недоверчивостью переминались с ноги на ногу, как будто у меня было другое намерение. Наконец раскланялись и ушли.
Спустя полчаса пришла Катя.
– Я всё знаю, – сказала она.
Ей встретились эти два «индейца», как выразилась она, «отняли» (опять же её выражение) у неё отца и утащили за гору.
– Да кто они такие? – сказал я.
– Два брата, а больная – то ли сестра, то ли жена одного из них. – Бедная женщина, – сказала Катя, глубоко вздохнув. – Кто бы мог подумать, что она больна… такая красивая. Отец говорит, что это горная болезнь[14].
Просители ушли. Какой-то тёмный осадок остался в груди, я молчал и смотрел на горы. Катя молчала и сидела подле меня. Солнце выскочило из-за горы и стало поблёскивать глазищами во все стороны. Обещал быть душным день и малоинтересным, и у меня пропало всякое желание списывать его, ибо замечено: как день начнётся, так и пройдёт. Иной раздумчивый читатель, быть может, заподозрит тут что-то неладное. Двое застенчивых молодых людей (представьте, да? – мне 25 лет, ей – 18) одни в огромном и пустом доме??? (эти три вопроса красноречивее любых слов). Персонально для такого читателя отвечаю. Как бы это выразиться поточнее, мы… не играли в любовь. Играли в… нарды, читали Монтескье – Кате очень нравятся «персидские письма», рисовали – я пытался сделать её портрет углём. Что ещё? Копались на огуречных и кориандровых грядках. Любезничали. И всё? Ну хорошо, Катя немного кокетничала на восточный лад, а я на европейский лад разыгрывал из себя лондонского денди, хотя смешно, это было в тот самый момент, когда мы очищали помёт в курятнике. А когда было совсем скучно… целовались.
А теперь перескочу на поздний вечер. Был один из тех неспокойных вечеров, когда всякого рода летучим мышам, ежам и всякой нечисти хочется доказать, что они есть. Какой-то мучительный интерес к нам нынче всего тёмного… Есть подозрение, что «чёрная сотня» котов нам перебежала дорогу. Спустился вечер, стала надвигаться темнота. Но мы ещё долго сидели на ступеньках террасы, дожидаясь Цдзяна. Его не было. Видно, не имело смысла больше ждать. Я зажёг керосиновую лампу, поскольку электричества здесь и в помине нет, лёг, не раздеваясь, на диван и стал перебирать какие-то свои листки. Катя незаметно удалилась к себе. Заметьте, я сказал «незаметно». Очень даже заметно! Незаметно может шмыгнуть мышка в норку, ну а это, сами понимаете, несколько другой момент… Хотим мы этого или не хотим, но влечение одного пола к другому обостряется с наступлением темноты и принимает несколько неадекватный характер, особо когда их разделяет только стенка. Я отложил листики в сторону, прикрутил лампу и стал слушать тишину. Вот по самым стёклам ударил ветвями облепихи ветер. На отдалении завыл шакал, чуть ближе простонал филин. А это Катя глубоко вздохнула… не спится… встала… Луна, как вечно странствующая блудница, крадётся по соседним горам и заглядывает в окно. Залаяла собака. Ещё раз залаяла. Ещё. А теперь покрыла сплошным надсадным лаем двор. Скрипнула дверь на расстоянии трёх локтей (как сказали бы египтяне) – Катя. Она на манер женщин-подростков в самой короткой детской рубашонке, видно, полагая, что я сплю, решительно подошла к окну. Луна очень хорошо освещает её только что округлившиеся формы…
Милостивые судари и сударыни… как сказал бы один небезызвестный метр, слюнные железы которого в такой момент, должно быть, просто истекали половой истомой…
Вдруг – о, духи гор! – ползучий гад моего воображения (впрочем, это был сильный порыв ветра, как удар кулака) распахнул окно, и мокрые молнии, кажется, наполнили нашу комнату: в наше окно залетел небольшой колченогий совёнок – видно, подранок этих непредсказуемых гор.
Я встал, чтоб рассмотреть поближе ночную птицу.
– Ваш отец, как Айболит, – сказал я. – Знаете, как в детской сказке «Айболит». В один момент к нему из ущелий начнут сползаться ужи, змеи, и он всем им сумеет помочь.
– Да, наверное, так, – сказала Катя.
Тут совёнок сильно ударил крыльями и с размаху залетел под кровать. Мы от неожиданности отскочили, платок Кати сбился с её плеч и упал на пол… Передо мной стояла полуобнажённая «вахина», девочка, которая, похоже, не стыдится меня. Я начал ощущать, как у меня сильно заколотилось сердце и перехватило дух. Я понимал, что для неё это сейчас тот самый пресловутый «подростковый интерес» и что он сейчас сильней её. Я отдавал себе отчёт. Но я не мог удержать себя.
Я схватил её руку и силой прижал к своим губам. Со мной начало твориться непонятное. Настоящая лихорадка охватила меня. Случалось ли вам когда-нибудь бывать в моём положении? Я б не желал, чтоб вы оказались в нём… Для этой девочки это только игра, только интерес, но не для меня с моим бешеным воображением… Какой-то мучительный, сверкающий, даже поразивший меня самого поток слов начал высвобождаться из моей груди. Такого красноречия я бы не хотел вам желать. Но Катя стоила самых лучших слов. Она молчала, низко склонив голову. Мы сели на лавку и долго сидели молча, рука об руку. Наконец я встал, прошёлся раза два из угла в угол и, глядя куда-то в сторону божницы, сказал:
– Идите спать…
Увольте меня от описания остатка мучительной ночи. Но я всё же благодарен ей, что она позволила лучше узнать себя… спустя день или два я разразился стихами… Да, да, благодаря этой неспокойной ночи я начал писать стихи, и я не хочу скрывать этого, а помещаю их на следующей странице. Ведь ложка дорога к обеду, не так ли?
Под знаком стрельца
I
Вы, как видение
В Лаврушинском переулке,
Это Вы, наверное,
Сделали разрез на моём лице крылом?
Мне ещё в детстве нагадала цыганка:
«Берегись ангела с раскосыми глазами
И московской сутолоки,
А более всего берегись
В них влюбиться тайком».
Вначале я не придал этому значения,
Мало ли какая чушь может исказить форму лица,
И вот, наверное, теперь я за то в заточении
Наподобие монаха-страстотерпца.
В начале я прядал, как лошадь ушами,
В начале я прятал о любви даже мысль,
А теперь – лёд тронулся,
Вы видите сами,
Мысли сами, всплеснув лошадками-рифмами,
Понеслись.
Ах, какая прелесть,
Изголодавшемуся сердцу дать успокоение!
И у музы отсасывать из груди
Молочко тайком,
В сием Таинстве
Есть великое предназначение —
Ходить и не морщиться
По гвоздям босиком.
Вот вам и отсутствие
Смирны и ладана,
Какую мне сохранить теперь форму лица?
Вы, как стрела, прошли
Сквозь меня негаданно,
Вы, кажется, родились
Под знаком стрельца?
II
Я, наверное, заслуживаю розог,
Три дня я не показываюсь Вам на глаза,
Я занят тем,
Что выстругиваю посох,
Опираясь на который
Я двинусь назад.
Увы! Я китайца себе напоминаю:
В руках – бамбуковая трость,
А за плечами – сума,
Мне кажется, что я
Один из поэтов Шанхая,
Которого однажды свела гейша с ума!
Кому много дано, с того много и спросится.
О Вашей ангельской внешности
Я лишь вздохнул слегка,
Зато теперь о ней
Пойдёт многоголосица,
Как только закончится
Эта строка!
Проститься я, конечно, выйду,
Быть может, нарежу охапку роз.
Но ни одним движением души не выдам,
Что мне пережить в эту ночь довелось.
III
Эта ночь Превращения
Комочка глины в статуэтку при помощи
пальцев и слюны.
Эта ночь утешения
Для всех, кому радости отпущены,
но ещё не даны.
Эта ночь Томления
неизвестных сфер и неизвестных чар,
Эта ночь Скольжения
на лезвии Греха и Падения
в окрай Стожар.
IV
По Вашей ангельской внешности
Не скажешь, что в ней остановлен кровоток,
Иначе зачем бы Вам с такой поспешностью
Накидывать на себя платок?
На Вашей ангельской внешности
Выдран клок перьев и оплавлен воск,
Быть может, это и есть конец нездешности,
Как сказал бы Блок?
18-го августа
Некоторые читатели, перелистав дюжину страниц, зададутся вопросами: что это? Кавказ или не Кавказ? Восток или не Восток? А может, это Коктебель и его волнистые отроги Крыма? О чём эта книга? Это книга восточных единоборств или некий эквивалент их? А если это Восток, то где привычная для нашего уха и глаза, вечно сопутствующая ему экзотика, как то: чайхана и чайханщик, духан и духанщик, где рынок, наконец, с пением зурны и тари? Ведь, кажется, ещё Бахчисарай прославился прежде своего знаменитого фонтана слёз рынком.
Я предвидел эти вопросы и в самом начале сделал беглые зарисовки пером и наброски карандашом местного рынка. Вот они.
Я не намерен вас, читатель, мучить и долго таскать за собой по каменистым тропам, тем самым показывая, как долго мы кружили с Учителем по горам-долам, пока наконец не опустились на землю, т. е. на площадку возле рынка. Разумеется, наше появление на рынке не сопровождало ни пение зурны, ни тари, ни даже самый заурядный погонщик ослов не приставал к нам, выманивая наш последний дукат.
У самого края скалы, к которой был прилеплен рынок, сидели в стоптанных сандалиях женщины, по одной и по две, и торговали перевязанными пучками укропа и редиски – самая заурядная европейская картина. Мне хотелось зевнуть, я отвернулся и увидел у самого входа на рынок горку камней, посреди которой, как и положено в горах, высоко подпрыгивал фонтанчик. Я жадно припал к источнику, нимало не заботясь о том, как отреагирует на ледяную воду моё слабое горло. Учитель тоже сделал два глотка. Какой-то прохожий важным приветствием отвлёк внимание Учителя, а я на минуту задумался и стал глядеть по сторонам. По периметру рынка ровными рядами были высажены тополя, они, как будто верные и запылённые стражники его, не отходили ни на шаг, и это придавало окрестности несколько компактный и торжественный вид.
На каменистом пятачке там и сям на земле и подводах сидели люди, некоторые из них были обриты наголо и молчали, как будто отбывали какое-то наказание, а некоторые разгоряченно что-то тараторили на незнакомом языке. Дело было к полудню, рынок был наполовину пуст. Мы, едва протиснувшись в узкую щель между каменной оградой и калиткой (потому что калитка почему-то была закрыта), направились вглубь рынка.
Впереди меня шествовал Учитель. Он был одет ярко: на голове красный тюрбан, длинное платье вроде кимоно слегка волочилось сзади. Со всех сторон сыпались голоса: то ли зазывал нас кто-то, то ли приветствовал. Наша процессия важно двинулась к последним рядам.
– Не желаете соломенную шляпу? – обратилась ко мне женщина на чистом русском языке. – Теперь такие в моде.
Я подошёл – пять шляп лежали на столе. Меня привлёкли их яркие фиолетовый, синий и красный цвета. Я взял красную на память, как сувенир. Теперь вы часто можете её видеть на моих акварельных зарисовках и полотнах.
Мне фантастически везёт на приобретения такого рода! Через минуту я чуть не стал обладателем попугая! А ещё через минуту прекрасная коллекция старинных книг буквально выпала из моих рук: Цдзян меня опередил и отогнал продавца книг, который набросился на меня, как я на экзотическую приманку. Книги оказались бутафорией.
Не зная далее чем занять себя, я сел на пенёк, что торчал прямо посередине рынка, как напоминание о чьей-то обрубленной идее, достал трубку[15], закурил и стал глядеть по сторонам. Рынок, должно быть, стоял на склоне горы, с противоположной стороны которой мы спустились. Моё внимание привлёк довольно любопытный пейзаж, открывавшийся за воротами рынка. Начиналась жара: деревья довольно плотным, но пассивным кольцом окружали рынок и не мешали разглядеть, что было за ними. А за ними виднелись горы, покрытые густым кустарником, приглаженным в этих местах, как мокрые волосы щёткой. Горы красиво убегали вдаль и заставляли думать о небольшом курортном городке П., в котором я некогда был и о котором у меня остались самые тёплые воспоминания, как о друге, в объятиях которого я побывал однажды.
Я долго, не отрываясь, глядел в синеющую даль, пока одно воспоминание не стало сливаться с другим, а слившись наконец, не заслонило окрестность.
Не знаю, долго ли, коротко ли я бы вглядывался в призрачную даль, если бы не почувствовал, как ледяным холодком потянуло низом. Я начал кутаться в свою полинялую одежонку.
20-го августа
Вот видите, как пролетело время, вы держите последнюю страницу в своих руках.
«Как? – вы скажете. – А где же уроки Учителя Цдзень?»
Милый мой читатель, я сделан из того же теста, что и вы, и на вашем месте, наверное, поступил бы точно так же. Но я не ставил своей целью вас обучить тому или иному приёму из тхэквондо или диафрагменному дыханию, которым владеет мой учитель. Мне было просто весело рассказывать о нём, о его судьбе (хотя в ней мало весёлого) и показать, в каких краях ещё искать оригинальность. Иными словами, как сказал бы автор «весёлой азбуки для взрослых», – «я сделал всё, чтоб вас повеселить». Но я предвидел ваш вопрос и раздражение, и вот что отвечает вам на это Цдзян. Мы долго с ним ломали голову, в какой форме это сделать, и решили сделать в виде афоризмов или в виде 16-ти параграфов, как хотите. Добрую половину пунктов Цдзян забраковал за излишнее моё «пристрастие к крепкому словцу», как он выразился, но я их помещаю хотя бы потому, что я не могу держать кляп во рту там, где Учитель слишком либерален.
1. Я не вижу противоречия между жизнью здесь и на Малом Тибете, где я некогда жил среди красношапочных лам. В конце концов жизнь везде – это борьба противоречий, а для меня она сводится к одному, к любимой пословице моего незабвенного Учителя Ю.: «Один раз упасть – семь раз подняться!»



