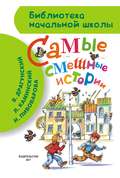Виктор Голявкин
Собрание сочинений. Арфа и бокс. Рассказы
Я жду вас всегда с интересом
Такого педагога я не встречал за все время своей учебы. А учился я много. Ну, во-первых, я в некоторых классах не по одному году сидел. И когда в художественный институт поступил, на первом курсе задержался. Не говоря уже о том, что поступал я в институт пять лет подряд.
Но никто не отнесся ко мне с таким спокойствием, с такой любовью и нежностью, никто не верил так в мои силы, как запомнившийся мне на всю жизнь профессор анатомии. Другие педагоги ставили мне двойки, даже не задумываясь над этим. Точно так же не задумываясь, они ставили единицы, а один педагог поставил мне ноль. Когда я спросил его, что это значит, он ответил: «Это значит, что вы – НОЛЬ! Вы ни черта не значите, вы не согласны со мной?» – «Послушайте, – сказал я тогда, – какое вы имеете право ставить мне ноль? Такой отметки, насколько мне известно, не существует!» Он улыбнулся мне прямо в лицо и сказал: «Ради исключения, приятель, ради исключения, я делаю для вас исключение!» Он сказал таким тоном, как будто это было приятное исключение. Этим случаем я хочу показать, насколько все педагоги не скупились ставить мне низкие оценки.
Но этот! Нет, это был исключительный педагог!
Когда я пришел к нему сдавать анатомию, он сразу, даже не дождавшись от меня ни слова, сказал, мягко обняв меня за плечо:
– Ни черта вы не знаете…
Я был восхищен его проницательностью, а он, по всему видно, был восхищен моим откровенным видом ничего не знающего ученика.
– Приходите в другой раз, – сказал он.
Но он не поставил мне никакой двойки, никакой единицы, ничего такого он мне не поставил! Когда я спросил его, как он догадался, что я ничего не знаю, он в ответ стал смеяться, и я тоже, глядя на него, стал хохотать. И вот так мы покатывались со смеху, пока он, все еще продолжая смеяться, не махнул рукой в изнеможении:
– Фу… бросьте, мой милый… я умоляю, бросьте… ой, этак вы можете уморить своего старого седого профессора…
Я ушел от него в самом прекрасном настроении.
Во второй раз я, точно так же ничего не зная, явился к нему.
– Сколько у человека зубов? – спросил он.
Вопрос ошарашил меня: я никогда не задумывался над этим, никогда в жизни не приходила мне в голову мысль пересчитать свои зубы.
– Сто! – сказал я наугад.
– Чего?
– Сто зубов! – сказал я, чувствуя, что цифра неточная.
Он улыбался. Это была дружеская улыбка. Я тоже в ответ улыбнулся так же дружески и сказал:
– А сколько, по-вашему, меньше или больше?
Он уже вздрагивал от смеха, но сдерживался. Он встал, подошел ко мне, обнял меня, как отец, который встретил своего сына после долгой разлуки.
– Я редко встречал такого человека, как вы, – сказал он, – вы доставляете мне истинное удовольствие, минуты радости, веселья… но, несмотря на это…
– Почему? – спросил я.
– Никто, никто, – сказал он, – никогда не говорил мне такой откровенной чепухи и нелепости за прожитую жизнь. Никто не был так безгранично невежествен и несведущ в моем предмете. Это восхитительно! – Он потряс мне руку и, с восхищением глядя мне в глаза, сказал: – Идите! Приходите! Я жду вас всегда с интересом!
– Спросите еще что-нибудь, – сказал я обиженно.
– Еще спросить? – удивился он.
– Только кроме зубов.
– А как же зубы?
– Никак, – сказал я. Мне неприятен был это вопрос.
– В таком случае посчитайте их, – сказал он, приготавливаясь смеяться.
– Сейчас посчитать?
– Пожалуйста, – сказал он, – я вам не буду мешать.
– Спросите что-нибудь другое, – сказал я.
– Ну хорошо, – сказал он, – хорошо. Сколько в черепе костей?
– В черепе? – переспросил я. Все-таки я еще надеялся проскочить.
Он кивнул головой. Как мне показалось, он опять приготовился смеяться.
Я сразу сказал:
– Две!
– Какие?
– Лоб и нижняя челюсть.
Я подождал, когда он кончит хохотать, и сказал:
– Верхняя челюсть тоже имеется.
– Неужели? – сказал он.
– Так в чем же дело?! – сказал я.
– Дело в том, что там есть еще кости кроме этих.
– Ну, остальные не так значительны, как эти, – сказал я.
– Ах, вот как! – сказал он весело. – По-вашему, значит, самая значительная – нижняя челюсть?
– Ну не самая… – сказал я, – но тем не менее это одна из значительнейших костей в человеческом лице…
– Ну предположим, – сказал он весело, потирая руки, – ну, а другие кости?
– Другие я забыл, – сказал я.
– И вспомнить не можете?
– Я болен, – сказал я.
– Что же вы сразу не сказали, дорогой мой!
Я думал, что он мне сразу сейчас же тройку поставит, раз я болен. И как я сразу не догадался! Сказал бы – голова болит, трещит, разламывается, разрывается на части, раскалывается вся как есть…
А он этак весело-весело говорит:
– Вы костей не знаете.
– Ну и пусть! – говорю. Не любил я этот предмет!
– Мой милый, – сказал он, – мое восхищение вами перешло всякие границы. Я в восторге! До свидания! Жду вас!
Он с чувством пожал мне руку. Но он не поставил мне никакой двойки, никакой единицы!
– До свидания! – сказал я.
Я помахал ему на прощание рукой, а уже возле дверей поднял кверху обе руки в крепком пожатии и помахал. Он был все-таки очень симпатичный человек, что там ни говорите. Конечно, если бы он мне тройку поставил, он бы еще больше симпатичный был. Но все равно он мне нравился. Я даже подумал: уж не выучить ли мне, в конце концов, эту анатомию, а потом решил пока этого не делать. Я все-таки еще надеялся проскочить!
Когда я к нему в третий раз явился, он меня как старого друга встретил, за руку поздоровался, по плечу похлопал и спросил, из чего глаз состоит.
Я ему ответил, что глаз состоит из зрачка, а он сказал, что это еще не все.
– Из ресниц! – сказал я.
– И все?
Я стал думать. Раз он так спрашивает, значит, не все. Но что? Что там еще есть в глазу? Если бы я хоть разок прочел про глаз! Я понимал, конечно, что бесполезно что-нибудь рассказывать, раз не знаешь. Но я шел напролом. Я хотел проскочить. И сказал:
– Глаз состоит из многих деталей.
– Да ну вас! – сказал он. – Вы же талантливый человек!
Я думал – он разозлится. Думал – вот сейчас-то он мне и поставит двойку. Но он улыбался! И весь он был какой-то сияющий, лучистый, радостный. И я улыбнулся в ответ – такой симпатичный старик!
– Это вы серьезно, – спросил я, – считаете меня талантливым?
– Вполне.
– Может быть, вы мне тогда поставите тройку? – сказал я. – Раз я талантлив?
– Поставить вам тройку? – сказал он. – Такому способному человеку? Да вы с ума сошли? Да вы смеетесь! Пять с плюсом вам надо! Пять с плюсом!
– Не нужно мне пять, – сказал я. – Мне не нужно! – Какая-то надежда вдруг шевельнулась, что все-таки он может мне тройку поставить.
– Вам нужно пять, – сказал он. – Только пять.
– По-вашему, выходит, вы лучше знаете, что мне нужно?
– Но вы не отчаивайтесь! Главное – не отчаивайтесь! Веселей глядите вперед, и главное – не отчаивайтесь!
– Буду отчаиваться! – крикнул я.
– Не смейте отчаиваться, – сказал он весело, глядя в глаза, пожимая мне дружески руку. – Вам нужно приходить! Еще! Все время приходить!
– Зачем?
– Учиться!
– Я неспособный! – крикнул я.
Он смотрел на меня и улыбался.
– Жду вас! – сказал он. – Всегда! С интересом! И он поднял обе руки в крепком пожатии высоко над головой, как это делал я совсем недавно.
Густой голос Выштымова
Я с ним где-то познакомился, не помню где, да и не важно. Кажется, меня с ним Василевичи познакомили, да вы Василевичей не знаете, да дело не в этом. Вот тогда я у него и спросил, где он работает, что у него за работа и сколько он денег получает. Оказалось, он по радио вещает. Что-то там такое читает, объявляет. Да мне это и не важно было, я просто так спросил, раз познакомился. У меня своя работа, свои заботы, какое мне дело до всего этого! Да и спросил-то я его после того, как он поинтересовался, сколько я в месяц денег получаю.
Я забыл о знакомстве.
Вдруг однажды я дома сидел, жена на кухне была, а я сидел у окна, как сейчас помню: дождик накрапывал, погода такая свежая была – и вот тут я и услышал этот голос. Бесспорно, Выштымова, я сразу узнал его голос, – так интересно! Видел человека, с ним беседовал, и вот вам, пожалуйста, – по радио говорит!
Я в кухню помчался, зову жену. «Убей меня, – кричу, – если это не голос Выштымова!» Она терпеть не может, когда я громко слова произношу, некоторое нервное расстройство у нее, конечно, имеется.
Но все-таки она прибежала в комнату, в чем дело, спрашивает, а я ей с радостью на приемник показываю, – вы себе не представляете! Сам не знаю, отчего у меня такая радость появилась, знакомый все-таки человек по радио выступает! Так вот она прибежала, в чем дело, спрашивает, что такое, – она думала, короче говоря, что пожар. Ну, все так говорят, а на самом деле никто так не думает. «Да никакого пожара нету, – говорю, – голос Выштымова по радио передают!» – «Какого, – спрашивает, – Выштымова?» – «Да того самого, – говорю, – с которым нас Василевичи познакомили».
Ну, тут, правда, я от возбуждения опять стал громко слова произносить, скверная все-таки привычка! «Слушай, слушай, – кричу, – внимательно слушай! Голос Выштымова передают!» Она вдруг разозлилась и как закричит: «Плевать я хотела на твоего Выштымова! Не знаю я никакого Выштымова! Дурак ты вместе со своим Выштымовым!» У нее, оказывается (потом выяснилось), котлеты окончательно сгорели, – а я откуда знал? Да ведь и она в то время, когда слова произносила, тоже ведь знать не могла, что у нее там котлеты сгорели. Недопустимое все-таки поведение с ее стороны в таком случае.
Скандал был небольшой, но крепкий. Недолгий, я хочу сказать, но котлеты даже кошка есть не стала, – естественно, скандал. Тарелку она ударила о дужку кровати и разбила – некрасиво!
В другой раз я сидел у окна, смотрел в окно: солнце то вспыхнет, то пропадет; как солнце вспыхнет, все озарит – такая красота! Жена спала, красоты, естественно, не видела, только с работы возвратилась. И вдруг слышу я голос Выштымова! Такой густой голос, я уже говорил, представьте себе, так приятно! Совершенно точно – его! Я стал будить жену, – хорошие чувства у меня были, да и вдвоем приятней знакомый голос по радио услышать. Она никак не просыпалась, спит, черт возьми, такой здоровый, крепкий организм, я ей все повторяю: «Выштымов говорит! Выштымов говорит!» – и в бок толкаю. Надо же так крепко спать, подумать только, потом жди, когда Выштымов по радио заговорит. Я ее все толкал в бок, толкал и повторял, что Выштымов говорит, а она что-то совершенно невразумительное мне отвечает, а Выштымов вот-вот кончит говорить. И вдруг она встает с постели и со всей силы бьет меня по лицу и снова ложится. Как ни в чем не бывало, как будто ничего не произошло. Ни с того ни с сего – представьте себе! Я удивился, а она мне даже отказалась прокомментировать свой поступок, объяснить все по порядку. Женщины, конечно, очень загадочные существа, загадочные люди, я всегда говорил. Как там поется: «Частица черта в нас заключена подчас!» Совершенно точно! До чего верно подмечено!
Мы с ней после этого инцидента три дня не разговаривали, я у ее матери ночевал, она мне тещей приходится, все ей, как есть, рассказал, так она дочку свою осудила. Не все женщины такие. Не все одинаковы, кому какая попадется, раз на раз не приходится, гора с горой не сходится, а человек с человеком сходится. Сойдемся еще, думаю, никуда не денемся. Между прочим, когда я у ее матери проживал, я там тоже услышал голос Выштымова, внезапно тоже все произошло – вдруг слышу! Я как заору: «Вот он, ей-богу, он!!!» Так бабка испугалась, вот потеха, чуть в обморок не упала – надо же! Да все они одинаковые, ей-богу, стала меня крыть на чем свет стоит: мол, теперь она своей дочке сочувствует, теперь она ее хорошо понимает.
Я вернулся к жене, она в это время как раз ужин готовила. А я сел у окна, вечер такой был чудесный, ветра не было, слегка, правда, душно, и вот слышу я голос Выштымова.
Сначала хотел радио выключить – опять, думаю, разные неприятности начнутся, не успел вернуться, а снова голос Выштымова звучит, пусть себе выступает, главное, чтобы жене не напоминать; сижу и слушаю – великолепный голос, бархатный, глубокий, да я об этом уже говорил.
Жена входит в комнату, садится, все время вздыхает, молчит, и я молчу, про Выштымова ей ничего не говорю. Стал тоже вздыхать: как-никак три дня где-то болтался, она где-то болталась, неизвестно еще, где она болталась…
Разные мрачные мысли мне в голову полезли, а Выштымов в это время рассказывает о каком-то заводе, и вдруг я слышу, рассказывает он о моей жене, перечисляет ее передовые опыты, вовсю хвалит, последние известия передает.
Я, естественно, смотрю на нее восхищенно раскрытыми глазами, она у меня молодец баба, все время грамоты получает, дельная такая, толковая, мировая баба, даже Выштымов о ней по радио передает! И я ее тогда спрашиваю:
– А знаешь ли ты, кто говорит?
Она резко встает и уходит неизвестно куда. А на кухне оставляет записку: «Я не желаю жить с сумасшедшим».
Гонора у нее много, тем более по радио похвалили, надулась, как пузырь, а ума-то ни на грош, бестолковая, можно сказать, баба, пустая, как чурбан!
Я ее жду, а она не приходит: наверное, живет у своей матери и разные там поклепы на меня наводит, наговаривает. Женщины, они все одинаковы, да я уже об этом говорил, простите, что повторяюсь.
У меня тоже гордость своя, не буду же я за ней бегать, как собачонка какая, чего я буду за ней бегать, с какой стати, тем более меня сумасшедшим назвала, а я ее никак не обзывал.
И вот я сижу как-то у окна, был закат, люди красные ходят, небо красное такое. Входит она, а в это время как раз Выштымова стали передавать. Я его сейчас же выключил. Да ну его.
А она, представьте, подходит и включает, – вот не ожидал! Ну, думаю, если ей нравится…
Ну, а ей говорю:
– Это ведь Выштымов выступает.
Она подходит ко мне, на ней лица нет, и бьет меня продуктовой сумкой по голове.
Я в отчаянье кричу: зачем же она тогда включает радио, если ей Выштымов не нравится, на что она мне ничего не отвечает, а только хлопает дверью. Загадочные все-таки существа эти женщины, а?
Теперь дальше. Сижу у окна, погоду я уже не помню, да и не так уж важно, сижу, значит, слушаю голос Выштымова, как вдруг она входит, а я, естественно, бросаюсь, выключаю моментально радио.
Она его тут же включает, и тут уж я ничего понять не могу, провалиться мне на этом месте!
И вдруг она, представьте себе, заявляет мне, что она не может слушать мой голос, а не Выштымова.
После чего я надеваю шапку и ухожу. А на кухне оставляю записку: «Я не желаю жить с сумасшедшей».
Мне очень не хочется идти к ее матери, она там про меня кучу разных гадостей наговорила, я знаю, но все-таки иду – куда же я еще пойду! Ее мать (симпатичная, между прочим, женщина, вот все были бы такие женщины!) соглашается со мной, что, как бы там ни было, что бы ни произошло, ни в коем случае нельзя бить продуктовой сумкой по голове.
В это время по радио говорит Выштымов, но я ей об этом не говорю.
Ее мать, моя теща, такая восхитительная женщина, заставляет меня вернуться, и якобы она договорилась с дочкой по телефону, хотя, как потом выяснилось, она ни о чем с ней не договаривалась.
Возвращаюсь. Вхожу в свой дом. Как всегда, по радио говорит Выштымов. Но я ни слова своей жене не напоминаю.
И жена, довольная, поет песню: «Давно мы дома не были», все идет нормально, хорошо, жена идет на кухню, делает голубцы; а я сижу у окна – паршивая была погода, ветер: окно, правда, закрыто, но все равно смотреть неприятно.
Жена входит с голубцами и спрашивает:
– Ты слышишь, кто говорит по радио?
Я вздрагиваю, но молчу. А жена говорит:
– Твой Выштымов говорит.
И так спокойно заявляет, как будто ничего никогда не происходило, ничего не было, ни в чем Выштымов не виноват. Ей, значит, можно произносить эту фамилию, а мне нельзя.
Почти в то же время звонит по телефону теща и удивительно радостным голосом сообщает, что только сейчас по радио говорил Выштымов.
Я подразумеваю, что надо мной специально издеваются, надеваю кепку и ухожу куда глаза глядят, к своему товарищу Василевичу.
Василевич мне сообщает, что по радио говорит Выштымов, и я от него ухожу.
Я стою на вокзале, чтобы уехать от Выштымова, от всех, кто связан с ним. Но на перроне по радио говорит Выштымов, и я понимаю, что он будет говорить в вагоне, везде и всюду, куда бы я ни уехал.
И я возвращаюсь домой привыкать к его голосу, раз все уже привыкли.
Художник
Зачем я ему был нужен, я не мог понять.
– Я был бы очень признателен вам, – говорил он мне по телефону, – если бы вы посетили мою выставку офортов и монотипий в зале для игры в мяч во Дворце культуры.
Мы с ним когда-то учились в художественном училище – не то он был старше, не то я был старше, я его не очень-то хорошо помнил: мы с ним на разных курсах учились.
Зачем я ему все-таки был нужен? Но, видно, я был ему просто необходим, раз он мне по нескольку раз в день звонил, когда меня дома не было.
Потом он поймал меня; не очень-то хотелось мне ехать на его выставку, дел у меня по горло было, но я все-таки поехал – он бы от меня не отстал, я это сразу понял.
Он встретил меня у двери.
– Я всех своих старых приятелей приглашаю на свою выставку, – сказал он.
Я никогда не был его приятелем. Мало того, я понял, что никогда не видел его и никогда не учился с ним в одном училище. Он совсем другой человек, не тот, за которого я его принял по телефону.
– Почему вы считаете меня своим приятелем? – спросил я его мягко.
Он молча и торжественно раскрыл передо мною книгу отзывов. Попросил подумать, перед тем как написать отзыв о его картинах. Он, разумеется, хотел, чтобы я написал ему туда слова лестные и приятные. Но я не смотрел еще выставку. А это, видимо, его не интересовало. Он протягивал книгу с улыбкой, и опять-таки я не мог понять, зачем ему мой отзыв. Я не представитель Министерства культуры или Академии художеств, не имею влияния в художественных кругах, не имею приятелей в этих сферах, не имею влиятельных родственников и ни в коей мере не мог бы способствовать успеху его творчества или, в крайнем случае, устроить выставку его работ вторично. Я сам, в конце концов, рисую этикетки на различные коробки для нашей пищевой промышленности, ни разу в жизни не выставлял своих произведений, которых, кстати, у меня и нет.
Я прошелся по залу. Работ было много. Все стены были завешаны работами. Если это только можно работами назвать. По моему мнению, здесь была бессмысленная трата времени. Глуповатый модерн, рассчитанный на количество. Я подивился энергии, направленной не в ту сторону таким молодым человеком. Он в люди выбивался любым способом; странное все-таки занятие – в люди выбиваться любым способом.
– Послушайте, – сказал я, – разве мы с вами знакомы?
Он обнял меня. Я попробовал отстраниться, но было поздно. Он цепко обнял меня и сказал:
– Мы с вами встречали Новый год.
– Когда?
– Это было давно… Там было много народу, вполне возможно, вы меня не помните. Вы сами изменились до такой степени, что вас не узнать. Я бы вас ни за что не узнал, встретив на улице, – совсем другой человек! Но этот факт не мешает вам способствовать моему успеху.
– Мы способствовать? – спросил я.
– Вы – мне, – сказал он, улыбаясь.
– Какая-то ошибка, – сказал я, – какая-то путаница…
Он стал стыдить меня.
Он сразу перешел на «ты»:
– Ведь ты мне обещал!
– Я не обещал, – сказал я.
– Когда мы встречали Новый год, – сказал он. Он наступал на меня, я отступал, а он говорил:
– Тогда вы много выпили, и вы говорили… ваша поддержка… всегда… и всюду… от вас… мы… дружба, поддержать… во что бы то ни стало…
Я, наверно, должен был уйти. Все это выглядело странным. Конечно, я должен был повернуться и уйти.
Но что-то останавливало меня, хотелось выяснить.
– Вы действительно уверены, что мы с вами знакомы? – спросил я.
Он опять кинулся на меня с объятиями, но на этот раз я отстранился, и он чуть не упал.
Вполне возможно, думал я, мы с ним встречали Новый год в какой-нибудь компании и он меня не так понял. Но это не значит, черт возьми… с какой стати?! И между тем мне было интересно. Зачем ему книга, мой отзыв зачем? Ну, книга еще туда-сюда, тщеславный парень, но мой отзыв ему зачем? Да что мне, жалко, в конце концов!
– Давай книгу, – сказал я, – давай…
И я сразу же, с ходу, написал ему размашисто на всю страницу:
«НИЧЕГО ПОДОБНОГО Я НЕ ВИДЕЛ НИ В ОДНОЙ СТРАНЕ».
Я положил ручку на стол и сказал:
– Только я не был ни в одной стране, вот что плохо…
Я даже, кажется, хихикнул после этих слов.
Он сразу резко изменился в лице. Бедняга, он придавал колоссальное значение моему отзыву!
Он разглядывал мою подпись. Шевелил губами и был чертовски сосредоточен.
Потом он взглянул на меня.
Глаза его блеснули недобрым холодным блеском. Этого мне не хотелось. Можно было бы с ним поговорить. Покритиковать его выставку, его неправильные понятия. А он зло и холодно смотрел на меня, а потом сказал:
– Нам больше не о чем разговаривать.
– Ну, не о чем так не о чем, – сказал я.
Я с ним то на «ты», то на «вы» начал, впрочем, и он тоже. Глупости сплошные, оторвали от работы и еще разговаривать не хотят…
Я к нему хорошо относился. Ко всем я хорошо относился. Никогда ничего плохого я к нему не имел. Никогда я его не знал раньше и не видел. Монотипии и офорты, в общем, в порядке вещей. Ерундовые, правда, работы, но человек же их делал, а не обезьяна, непременно там есть что-нибудь хорошее, если их человек делал, если повнимательней, душевней отнестись, хотя, безусловно, такие работы обезьяна тоже может сделать…
Я хотел похлопать его по плечу, успокоить, но он вырвался, отбежал в конец зала и оттуда крикнул:
– Ы-ых! – поднял вверх кулак. – Вы не Федоров! Вы – другой!
А почему он решил, что я Федоров?!