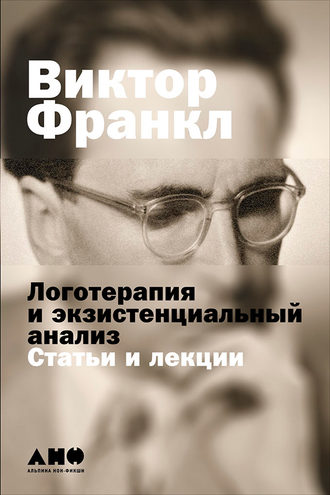
Виктор Франкл
Логотерапия и экзистенциальный анализ: Статьи и лекции
Прежде чем продолжить, отметим здесь, что между экзистенциальной свободой человека с одной стороны и высшей, провидческой необходимостью, а с другой – может сформироваться такое же отношение, как между необходимостью и свободой (см. выше). Противоречие между экзистенциальной свободой и провидческой необходимостью при рассмотрении через призму измерений также представляется мнимым. То, что кажется нам, людям, свободным решением – а на уровне человеческого даже является свободным решением! – есть именно в такой своей свободе Божье желание, угодное Ему. В конце концов, одомашненное животное – скажем, вол – на уровне своей природы даже не подозревает, для каких «высших» целей человек в буквальном смысле «стреножил» его инстинкты и таким образом внедрил вола в свой человеческий, крестьянский мир. Но сфера существования животного относится к человеческому миру именно так, как человеческий мир – к высшему, это соотношение аналогично золотому сечению.
Однако останемся в области человеческого и вернемся к тезису, сформулированному нами выше: что лишь духовное измерение является формообразующим для всего человеческого. Однако духовное – не единственный, пусть и исходный компонент человеческого. Дело в том, что духовное – не одно из измерений человека, а важнейшее его измерение, что не отменяет наличия у человека других измерений. Как говорил Парацельс, «лишь вершина человека – это человек». Позволим себе переформулировать этот афоризм, заменив «лишь» на «не ранее»; не «только» на высоте, в высшем измерении, в измерении духа существует человек, но «не ранее», чем мы вступим в трехмерное человеческое пространство (телесно-душевно-духовное), мы сможем рассмотреть человеческое как таковое. Итак, все дело не только в «третьем» духовном измерении, но в самой трехмерности тела, души и духа. Только в этом триединстве человек гуманистический с его человечностью, оказывается в своей стихии. Согласиться же с тезисом Парацельса означало бы, напротив, всего лишь сделать еще одну проекцию, то есть вновь рассматривать человека линейно и впадать в монизм, пусть даже в возвышенный спиритуалистический монизм, в противовес «низкому» материалистическому монизму.
Конечно, духовное с онтологической точки зрения является самостоятельным видом бытия, а с антропологической точки зрения – видом бытия, специфичным именно для человека. Однако такие утверждения справедливы лишь с двумя оговорками: во-первых, духовное ни в коем случае не является единственной онтологической сферой, к которой относится человек (утверждать обратное означало бы впадать в спиритуализм); во-вторых, поскольку человек – каким бы духовным существом с духовной сущностью он ни был – остается телесно-душевно-духовной единицей во всем ее единстве и целостности. Помимо того важно, что в рамках духовного, с ноологической[26] точки зрения, рациональное и интеллектуальное не являются сущностными составляющими человека; право называться такими составляющими у них оспаривают эмоциональное и экзистенциальное. Признавая эту иерархию, экзистенциальный анализ сталкивается с тремя опасностями, угрожающими антропологии, если она пытается привлечь духовное в план выстраиваемого ею человеческого образа. Эти опасности – спиритуализм, рационализм и интеллектуализм.
Бесспорно, что в некоторых случаях обойтись без проекций не удается. Допустим, если бы я собирался провести неврологический осмотр пациента, то я должен был бы действовать так, словно человек существует только в физиологическом измерении. В таком случае я не имею права представлять себе, что и в ходе осмотра имею дело с человеком гуманистическим. На время осмотра я все-таки вынужден действовать так, как будто сидящий передо мной пациент представляет собой «клинический случай», а не совершенно самостоятельного больного «человека» – пациента из рода Homo. Подобное упрощение требуется мне, например, и при проверке коленного рефлекса, поскольку такой рефлекс я проверяю не у полномерного человека, а у организма, более того – у центральной нервной системы, которая представляет собой не более чем проекцию человека гуманистического.
Не менее оправданно бывает спроецировать человека из подобающего ему ноологического пространства не в область физиологического, как при неврологическом осмотре, а в плоскость психологического; именно это и происходит при психодинамическом исследовании. Но если я буду работать таким образом без полного осознания применяемого мною метода, то такая практика вполне может ввести меня в заблуждение. Прежде всего мне потребовалось бы не упускать из виду все, что я отфильтровываю на время такого осмотра; ведь в координатной системе одностороннего и исключительно психодинамического наблюдения я априори не могу увидеть в человеке ничего кроме и ничего более, как существо, которое, очевидно, находится под влиянием влечений и стремится свои влечения удовлетворять. Все специфично-человеческое в такой системе связей неизбежно отражается лишь в искаженном виде; определенные человеческие феномены попросту исчезают. Задумаемся же теперь о смысле и о ценностях: они должны полностью исчезнуть из моего поля зрения, поскольку я обращаю внимание лишь на импульсы и влечения, причем они должны исчезнуть хотя бы по той простой причине, что ценности меня не стимулируют, а тянут! Между влечениями и ценностями возникает яркое различие, отказываться признать которое мы не можем, если работаем в плоскости феноменологического анализа и ищем доступ к всецелой, несокращенной действительности человеческого бытия.
Существуют и необходимые проекции; да, любая онтическая наука как таковая – в противовес всему онтологическому знанию – не обходится без того, чтобы делать проекции, вынуждена не замечать дименсионального характера своего предмета и списывать его измерения. Все это означает не что иное, как проецирование объекта. Таким образом, наука – это обязательная ликвидация полномерной структуры реальности: наука вынуждена экранировать и выносить за скобки – должна симулировать и действовать так, «как если бы…».
Но наука должна и понимать, что она делает! При этом наука не должна пытаться никого ввести в заблуждение, что она – не средство имитации, а «здравый человеческий рассудок», либо, если сформулировать точнее, непосредственное самосознание незамысловатого и простого человеческого бытия, для которого такие вещи, как дух, свобода и ответственность превращаются в обычные «фикции». Натурализм вовсю убеждает человека в том, что это именно фикции, биологически редуцируя их до каких-то внутримозговых процессов или вообще приравнивая к ним, либо дедуктивно выводя дух, свободу и ответственность из психологического материала. Но незамысловатый и простой человек не считает себя «психическим механизмом». Напротив, такой человек уже давно понял особую связь, которую он имеет со своей духовностью, свободой и ответственностью. Человек осознает это гораздо раньше, чем узнает о том, что такое мозг, либо чем услышит о конфликте влечений, из которых дух сперва должен непостижимым образом сформироваться. Мы видим, что проекции и научные модели бывают не только обязательными и необходимыми, но и ненужными. Собственно, психология должна быть и ноологией – независимо от того, хотим ли мы ее так называть. Лишь в таком качестве она может претендовать на то, чтобы понять (хотя бы приблизительно) такие феномены, как «личность» – «существование» – «духовное» (в зависимости от того, с каких позиций она подходит к ним – феноменологических, антропологических или онтологических).
К экзистенциям человеческого бытия относятся: духовность, свобода и ответственность человека. Три эти экзистенции характеризуют не только человеческое бытие-в-мире как таковое, но и в принципе формируют его. В таком смысле духовность является не только характеристикой человека, но и его ключевым элементом: духовное не просто описывает человека (описывают человека и телесное и духовное), духовное – это отличительная черта человека, свойственная ему в первую очередь.
Самолет, разумеется, не перестает быть самолетом, даже если катится по земле; оказавшись на земле, он может и должен продолжать двигаться! Но тот факт, что самолет – это самолет, доказывается лишь тогда, когда эта машина пускается в полет по воздуху. Так же и человек начинает вести себя как человек лишь после того, как сумеет выйти из плоскости своей психофизической телесной фактичности и противопоставить себя самому себе – при этом, конечно, у него не возникает нужды себе противоречить.
Именно такая возможность и называется экзистенцией, и означает экзистенцию: все время оставаться немного выше самого себя.
1. Духовность человека
Духовная данность «сопровождает» иные данности. При этом такое присутствие нельзя представить пространственно – и не только потому, что это не пространственное, а «действительное» присутствие; но потому, что эта «действительность» является не онтической, а онтологической. Итак, дух не находится «снаружи» в каком-либо онтическом смысле, а находится квази-снаружи в онтологическом смысле!
Конечно, мы не собираемся уверять читателя, что здесь мы говорим обо всем лишь «в переносном смысле»; ведь с тем же успехом можно было бы утверждать и противоположное, что воплощенное присутствие (например, совместное времяпрепровождение двоих людей) также является присутствием в ограниченном смысле, а именно в пространственно-ограниченном – или, если хотите, в телесно-ограниченном! Ведь первым и основным является бытийный смысл, не-пространственный и не-телесный, словом, не-воплощенный.
Наиболее сущностный вопрос всей теории познания с самого начала поставлен неверно! Ведь вопрос о том, как субъект может постичь объект, бессмыслен уже потому, что сам этот вопрос является результатом недопустимого опространствения и сопутствующей онтизации истинного обстоятельства; здесь мы просто вынуждены спросить, как субъект может выйти за собственные пределы и познать «внешний» относительно себя объект, по той простой причине, что в онтологическом смысле этот объект в принципе не может выйти «за собственные пределы». Если же этот вопрос понимается в онтологическом смысле, и понятие «снаружи» употребляется не как «метафорическое», то наш ответ должен быть таким: «Так называемый субъект всегда находился, так сказать, снаружи в контакте с так называемым объектом!»
Иными словами: любой зазор между субъектом и объектом, любое их расщепление и отпадание друг от друга, допускаемые теорией познания из-за принятого в ней неправомерного опространствения, мы не можем ни поддержать, ни даже допустить. Только с таким условием мы получаем метод, который действительно является онтологией познания, только тогда пропасть между познающей духовной сущностью и другой познаваемой сущностью даже не намечается. Любая дистанция между «снаружи» и «внутри», «извне» и «вовне», любая даль и близь возникает в онтизирующей, не-онтологической теории познания лишь по причине пространственного понимания всех этих выражений.
Такая позиция теории познания фактически означает философское «грехопадение», означает «плод» с «древа теории познания». Поскольку стоило только возникнуть этому разрыву, устранить его пропасть становится уже невозможно, пути назад нет! Если бы мы попытались ускользнуть от этого рокового раскола между субъектом и объектом, то прежде мы были бы вынуждены вернуться к той развилке бытия-в-мире, где расходятся субъект и объект.
Возможность духовной сущности «быть» «при» другой сущности – изначальное достояние, суть духовного бытия, духовной действительности. Как только эта возможность признана, она избавляет нас от старинной проблемы теории познания, связанной с «субъектом» и «объектом»; она освобождает нас от бремени доказывания той проблемы, как первый получает доступ ко второму. Однако это облегчение не дается нам даром, в частности, оно требует отказаться от задавания прочих вопросов, в том числе и вопроса о том, что стоит за этой наивысшей возможностью духа, пребывать «при» другом бытии.
Действительно, онтология познания не в состоянии предъявить или высказать что-либо, когда духовно сущее «как-либо» оказывается при другом сущем: онтологически достигается только эта «материя», но не «идеальная форма», не сущность присутствия.
Таким образом, сущее относительно познающей ее духовной сущности никогда не оказывается «снаружи», а просто остается «рядом». Итак: даже при рефлексивной установке, свойственной любой психологии, такое простое «здесь» – бытие распадается на субъект и объект! Но эта рефлексивная трактовка как таковая уже ни в коем случае не является онтологической, а, скорее, онтической и даже психологической. В таком случае даже духовная сущность превращается в вещь среди вещей[27], а ее присутствие – во внутримирное отношение.
Чем же в конечном счете является такое присутствие духовной сущности? Это интенциональность данной духовной сущности! Однако духовное сущее является интенциональным в основе своего существования, поэтому мы вправе сказать: духовно существующее есть именно духовное существующее, самосознание, остающееся «при» себе, что не мешает ему в то же время быть «при» другой сущности – той, которая была им «осознана». Таким образом, духовное сущее реализуется в присутствии, и такое присутствие является наихарактернейшей возможностью духовного сущего, его неотъемлемой правозможностью.
В конце концов духовное сущее может «присутствовать» не только при другом сущем, но и при равноценном ему сущем – то есть при сущем, которое в свою очередь является духовным, таким же, как и первое. Такое присутствие духовного сущего при другом духовном сущем, бок о бок с другим духовным сущим мы теперь называем «взаимоприсутствие». В результате получается, что только и исключительно при таком взаимоприсутствии возможно полноценное присутствие, то есть только для двух равноценных сущностей.
Но это также возможно только в условиях неустанного взаимно-преданного сосуществования, которое мы называем любовью.
В соответствии с вышесказанным мы можем определить любовь следующим образом: возможность обращаться к кому-либо на «ты» и поэтому также иметь возможность сказать этому человеку «да». Иными словами: постигать человека в его так-бытии, с его внутренней природой, в его уникальности и неповторимости, однако не ограничиваясь его так-бытием и внутренней природой, но также в его ценности, долженствовании; да, это означает одобрять этого человека. На данном примере мы вновь убеждаемся, что отнюдь нельзя говорить о любви, что ослепляет; напротив, любовь помогает человеку прозреть, буквально делает его зрячим; ведь та ценность, которую она высвечивает и позволяет рассмотреть в ближнем, представляет собой еще не действительность, а просто возможность, что-то, что пока не существует, но возникает, может возникнуть и должно возникнуть. Любви присуща когнитивная функция.
Если также взаимоприсутствие представляет собой «бытие» одной личности «при» другой, и это настолько же означает, что бытие «при» этой другой личности предполагает абсолютное ино-бытие этой личности (ино-бытие относительно всех других личностей), причем это ино-бытие приемлет такое взаимоприсутствие – и только такое взаимоприсутствие – с любовью, то, соответственно, можно сказать, что любовь безусловно представляет собой личностный образ бытия.
В рамках человеческой духовности существует и такой феномен, как бессознательная духовность. В любом случае необходимо добавить, что мы считаем бессознательной такую духовность, чья неосознанность заключается в упразднении рефлексивного самосознания – но с сохранением имплицитного самосознания[28] человеческого бытия-в-мире – ведь такое самосознание присуще любой экзистенции, любому человеческому бытию.
Бессознательная духовность есть исходный и коренной пласт всего сознательного. Иными словами: мы знаем и признаем не только инстинктивное бессознательное, но и духовное бессознательное, и именно духовное бессознательное мы считаем несущим основанием для всей осознанной духовности. «Я» не оказывается под властью «Оно», но дух опирается на бессознательное.
Чтобы далее объяснить феномен, который мы обозначили как «духовное бессознательное», далее воспользуемся моделью еще одного феномена – совести[29].
Оказывается, тот феномен, который мы называем совестью, также простирается в глубины бессознательного и коренится там. Именно большие, истинные – экзистенциально-истинные – решения человеческого бытия-в-мире обычно совершаются без всякой рефлексии, при этом бессознательно; итак, истоки совести лежат в сфере бессознательного.
В таком смысле совесть можно назвать и иррациональной; она алогична или, точнее говоря, пралогична. Ведь равно как существует донаучное и онтологически даже предшествующее ему пралогическое понимание бытия, так и существует доморальное представление о ценностях, в сущности, предшествующее всяческой эксплицитной морали – это не что иное, как совесть.
Однако если мы зададимся вопросом о том, по какой причине сознание должно непременно действовать на иррациональном уровне, то придется обдумать следующий факт: совести все-таки открывается не сущее, а еще не сущее; то, что лишь должно засуществовать. Такое «долженствующее существовать» является не действительным, а лишь возможным (разумеется, при этом нельзя не учитывать, что такая простая возможность в высшем, можно сказать, в моральном смысле, опять же, представляет собой необходимость). Однако коль скоро то, что открывается нам через совесть, лишь готовится осуществиться и может осуществиться только после того, как будет реализовано, возникает вопрос: как же еще оно может быть реализовано, если не через духовное, где оно каким-то образом сначала должно быть духовно предвосхищено? Такое предвосхищение, духовная антиципация, происходит лишь на уровне так называемой интуиции: духовное предвосхищение происходит при акте созерцания.
Итак, по сути совесть проявляется как интуитивная функция: чтобы предвосхитить то, что должно быть реализовано, совесть должна сперва интуитивно на это выйти. В таком смысле совесть является этосом, который фактически иррационален и лишь потенциально поддается рациональному осмыслению. Однако разве нам не известен аналог такого этоса – я имею в виду эрос, столь же иррациональный, столь же интуитивный? Действительно, любовь также действует интуитивно; она также созерцает то, что еще не существует. Однако любовь, в отличие от совести, не является в первую очередь «тем, что должно засуществовать»; напротив, то, что еще не существует и открывается нам через любовь, является только способным свершиться. Любовь лицезрит и открывает именно ценностные возможности возлюбленного «Ты». Она в своем духовном созерцании, также кое-что предвосхищает; а именно то, какие еще неосуществленные личностные возможности способен заключать в себе конкретный любимый человек.
Однако любовь и совесть сходны не только в том, что обе они имеют дело лишь с чистыми возможностями, а не с явлениями действительности; не только это с самого начала со всей очевидностью указывает, что и любовь, и совесть могут действовать на уровне интуиции. Не менее важно привести и вторую причину, обусловливающую их обязательный, хотя, в сущности, интуитивный, иррациональный и поэтому никогда не поддающийся окончательному осмыслению образ действия. Дело в том, что эти чувства – как совесть, так и любовь – имеют дело с абсолютно индивидуальным бытием.
На самом деле именно задача совести – открывать человеку то «единственное, что нужно». Однако это единственное для каждого неповторимо. Итак, речь идет об абсолютно индивидуальном феномене, об индивидуальном «долженствовании бытия», которое не охватывается никаким общим принципом, никаким универсально формулируемым «моральным законом» (понимаемым как кантианский императив), а предписывается только «индивидуальным законом» (Георг Зиммель); такое долженствование никоим образом не распознается рационально, а лишь интуитивно улавливается. Такие интуитивные свершения также обеспечивает совесть.
Одна только совесть в состоянии, так сказать, соотнести «вечный», универсально формулируемый моральный закон с любой конкретной ситуацией, случающейся в жизни любого индивида. Жизнь с точки зрения совести – это именно абсолютно личная жизнь, выражающаяся в виде абсолютно конкретной ситуации, той, которая может произойти в рамках неповторимого и уникального бытия-в-мире каждого из нас; совесть уже включает в себя конкретное «в мире» моего личного «есть».
Теперь продемонстрируем, что и в таком отношении, применительно к интенции сознания, которая, по сути, индивидуальна, любовь занимает своеобразную параллельную позицию; не только этос, но и эрос направлен на целиком и полностью индивидуальную возможность. В то время как совесть открывает то самое «единственное, что нужно», любовь открывает то неповторимое, что является возможным: уникальные возможности любимого человека. Да, в первую очередь любовь и только любовь в состоянии лицезреть человека в его неповторимости, как абсолютного индивида.
Однако не только этическое и эротическое, не только совесть и любовь коренятся в эмоциональной, причем не рациональной, а интуитивной глубине духовного бессознательного; но и третье, а именно патическое, в определенном смысле обитает как раз на этой глубине. Все дело в том, что наряду с этическим бессознательным, моральной совестью, существует также эстетическое бессознательное – художественная совесть. Ведь в контексте произведений искусства[30], а также их репродукций художник также зависит от бессознательной духовности именно такого порядка. Дело в том, что интуиции совести, иррациональной и поэтому не допускающей полного осмысления, соответствует вдохновение художника, которое также коренится в сфере бессознательного. Именно благодаря вдохновению художник творит, поэтому источники его творчества остаются во тьме, которая никогда не может быть до конца освещена силами сознания. Мы снова и снова убеждаемся, что сознание (как минимум – чрезмерно выраженное) может быть помехой такому художественному творчеству; нередко и натужное самонаблюдение, стремление сознательно «сотворить» то, что должно само собой формироваться в глубинах бессознательного, может навредить творящему художнику. Излишняя рефлексия в данном случае будет лишь во вред.
Выше уже было указано, что как только речь заходит о бессознательной духовности, мы понимаем под «бессознательным» не что иное, как отсутствие рефлексии. Однако здесь мы имеем в виду не только отсутствие, но и принципиальную невозможность рефлексии. Ведь человеческая духовность не просто является бессознательной; такая бессознательность – ее непременное свойство.
Действительно, оказывается, что дух не поддается рефлексии как минимум с позиций духа, так как он в конечном итоге скрыт от любого самонаблюдения, целью которого является попытка осмысления духа, начиная с его зарождения, источника. В своей работе Unbewußter Gott («Бессознательный Бог») я аллегорически описал эту взаимосвязь: у самых корней сетчатки, там, где зрительный нерв входит в глазное яблоко, находится так называемое слепое пятно. Но здесь напрашивается и другая аналогия: такое пятно, непроницаемое для любого самоотражения, вполне можно сделать, причем именно это и происходит, когда кто-либо пытается сам себя «отразить» – в тот же момент он сам себя затмит. Кстати, с генетической точки зрения сетчатка является частью мозга, причем сам мозг – тот орган, в котором возникают все болевые ощущения – совершенно невосприимчив к боли. Приведем еще одну аналогию… ведь именно такова личность – по Максу Шелеру, она является центром всех духовных актов, соответственно, также центром всего сознания; при этом личность абсолютно не приспособлена к самосознанию.
В телескоп можно наблюдать все планеты Солнечной системы, с одним исключением: нельзя наблюдать саму Землю. Аналогично складывается и вся остальная познавательная деятельность человека: всякое познание, если оно человеческое, привязано к конкретному местоположению. Но сама позиция этой точки привязки не может быть предметом наблюдения, поэтому субъект никогда не может в полной мере уподобить себя объекту собственного наблюдения.
Однако дело не только в том, что полноценная саморефлексия невозможна; она к тому же и нежелательна. Перед духом не ставится задача самого себя наблюдать и отражать. Человеку свойственно подчиняться и равняться на кого-либо или на что-либо, на творение или на другого человека, на идею или личность! Лишь в той мере, в которой мы проявляем подобные интенции, мы экзистенциальны, лишь в той мере, в коей человек духовно присутствует при ком-либо или при чем-либо, как при духовной, так и при недуховной иной сущности – только в меру такого присутствия человек остается и сам с собой. Человеку не пристало наблюдать и отражать самого себя; он существует для того, чтобы выставлять себя напоказ, делиться собой, отдавать себя, познавая и любя.
Личность познается в ее биографии, она раскрывает себя, свое так-бытие, свою неповторимую сущность только в биографическом выражении, а прямому анализу не поддается. Биография в конечном итоге представляет собой не что иное, как выражение личности в контексте времени. В таком смысле, разумеется, каждой биографической дате, каждой детали из жизни соответствует биографический статус, а также субъективная значимость, но лишь до определенной степени и в определенных границах. Такая ограниченность как раз соответствует обусловленности человека, который лишь в некоторых случаях может быть независим, а фактически остается скованным. Как бы ни хотелось человеку быть именно духовным существом, он остается существом конечным. Из этого также следует, что духовная личность не может независимо «прорастать» через психофизические слои. Духовную личность не только порой не удается разглядеть через эти психофизические слои, но и сама личность не всегда может сквозь них пробиться. В любом случае не может быть и речи о том, чтобы психофизический организм, а также протекающая в нем болезнь были репрезентативны для духовной личности, которая лежит в основе данного организма и так или иначе этим организмом пользуется; ведь для духовной личности это невозможно ни при каких условиях и ни в каких обстоятельствах. Таким образом, подобная духовная личность не в любых условиях может проявлять себя через психофизический организм, и по этой же причине она не всегда просматривается сквозь психофизический организм; опять же, поскольку эта среда косна, она представляется мутной. Тогда организм – не в последнюю очередь при развитии болезни – является зеркалом, в котором отражается личность, и само это зеркало не лишено пятен. Иными словами, не следует приписывать личности каждое пятно, которое мы видим на этом зеркале. Тело человека ни в коем случае не является достоверным отражением его духа; это можно было бы сказать о «просветленном» теле, лишь просветленное тело было бы вполне репрезентативным представлением духовной личности. При этом тело «падшего» человека представляет собой разбитое зеркало, поэтому дух в нем лишь искажается. Отнюдь не любое телесное расстройство может быть увязано с расстройством разума или выведено из умственного расстройства. Не все болезни ноогенны; тот, кто утверждает обратное, либо спиритуалист, либо – если речь идет о телесном недомогании – ноосоматик. До тех пор, пока мы сознаем, что человек не в состоянии осуществить силами своего психофизического организма все то, чего может желать его духовная личность, мы – в силу такого неизбежного бессилия – воздержимся от объяснения любых телесных заболеваний расстройствами духа. Конечно, у каждой болезни есть свой «смысл»; однако истинный смысл болезни заключается не в том, что она собой представляет, а в том, как страдает человек, и именно второй смысл болезни должен рассматриваться в первую очередь. Именно это и происходит всякий раз, когда страждущий – пациент – противопоставляет свое «Я» (духовную личность) болезни (аффектации психофизического организма). В таком принятии своей судьбы болезненного состояния, в своем отношении к такой судьбе, больной реализует (именно!) глубочайший смысл, осуществляет (именно!) высочайшую ценность. Болезнь обладает смыслом сама по себе, и я также вижу в ней смысл; но этот собственный смысл болезни является сверхсмыслом, то есть выходит за всякие рамки понимания смысла, доступные человеку. Этот смысл по-настоящему начинается лишь за пределами той тематики, которую мы вправе именовать психотерапевтической. Выходя за эти пределы, врач оказывается в таком же замешательстве, как и тот человек, которому пришлось отвечать на вопрос собственного ребенка «а почему Бог – это любовь?». Этот человек попытался отделаться казуистическим ответом: «Он же вылечил тебя от кори!», на что ребенок логично возразил: «Но ведь Он же и послал мне корь!»
Бессилие человеческого духа при психозе заключается в том и, соответственно, ограничивается тем, что дух не в силах выразить свое отношение к психозу, что бы ни представляло собой это отношение – сопротивление болезни или примирение с ней. Но мы не должны путать такую невозможность выражения с невозможностью отношения как такового. Возможность отношения сохраняется и реализуется снова и снова благодаря феномену, который мы называли упрямством духа. Именно нейропсихиатр как никто сведущ о психофизической обусловленности духовной личности, и именно он является свидетелем упрямства духа этой личности.
Человеческий дух обусловлен – ни меньше, но и не больше. Тело ни на что не влияет, оно лишь обусловливает, но такая обусловленность человеческого духа не в последнюю очередь заключается в неотделимости духа от тела – даже так называемые внеличностные механизмы (по Виктору Эмилю фон Гебзаттелю) существуют не в духовной, а в психофизической плоскости, заключаются в зависимости человеческого духа от полной неповрежденности инструментальной[31] и экспрессивной функции его психофизического организма. Такая двойная функция, служащая основой для всякой личностной способности к действию или к выражению, может быть нарушена; однако это отнюдь не свидетельствует о разрушимости духовной личности. Мы пришли бы к ложному выводу, если бы на основании неспособности духовной личности выразить себя и свое отношение к психозу констатировали бы принципиальную невозможность духовной личности иметь дело с этим психозом. Так или иначе, подобное отношение личности к психозу является дискретным и скрытым от нашего взора; что, правда, не мешает этому отношению состояться, а личности – бессловесно переносить и терпеть свои страдания.






