
Викрам Сет
Достойный жених. Книга 1
Часть вторая
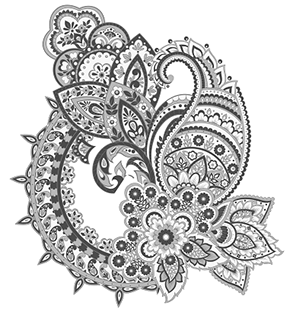
2.1
Утром в день Холи[95] Ман проснулся, улыбаясь. Он выпил не один, а несколько бокальчиков тхандая[96], сдобренного бхангом[97], и вскоре воспарил, точно воздушный змей. Он чувствовал, как потолок наплывает на него, – или это он сам плывет под потолок? Будто в тумане он увидел своих друзей Фироза и Имтиаза вместе с навабом-сахибом, прибывших в Прем-Нивас поздравить семейство Капур. Он вышел вперед, чтобы пожелать гостям счастливого Холи. Но смог только смеяться без умолку. Они вымазали его лицо краской, а он все хохотал и хихикал. Его усадили в уголок, и он смеялся, пока слезы градом не покатились по лицу. Потолок к тому времени уплыл на свое место, зато стены пульсировали чрезвычайно загадочно. Внезапно он вскочил, обхватил Фироза и Имтиаза за плечи и потащил к выходу.
– Куда мы? – спросил Фироз.
– К Прану, – ответил Ман. – Я должен отпраздновать Холи со своей невесткой.
Он сгреб два пакета с цветной пудрой и засунул их в карман курты[98].
– В таком состоянии тебе лучше не садиться за руль отцовской машины, – заметил Фироз.
– А, мы поедем на тонге, на тонге, – пропел Ман, размахивая руками, а потом снова обнял Фироза. – Но сперва выпейте тхандая. Вставляет потрясающе.
Им повезло. В то утро было немного свободных тонга, но одна из них катила мимо шагом, едва они вышли на Корнвалис-роуд. Все дорогу до университета лошадь нервничала, когда они проезжали мимо орущих праздничных толп. Тонга-валла получил от них вдвое против обычной стоимости поездки, а заодно они щедро вымазали розовой краской его лицо и зеленой – морду лошади.
Едва завидев, как они высаживаются из повозки, Пран радушно вышел им навстречу и повел в сад. Сразу за дверью веранды стояла широкая ванна, наполненная розовой краской, в которой плавало несколько футовых медных спринцовок. Прановы курта и паджама были насквозь мокрыми, а лицо измазано розовым и желтым порошком.
– А где моя бхабхи? – заорал Ман.
– Я не выйду! – сказала Савита из-за двери.
– Отлично! Тогда мы войдем внутрь! – крикнул Ман.
– О нет, не войдете, если у вас нет с собой нового сари для меня.
– Получишь ты свое сари, а теперь все, что мне нужно, – это фунт плоти, – сказал Ман.
– Очень смешно, – ответила Савита. – Можешь играть в Холи с моим мужем сколько душе угодно, но пообещай, что меня покрасишь только чуть-чуть.
– Да-да! Обещаю! Всего чуточку пудры, а потом – самую малость пудры для прекрасного личика твоей сестрички, и я буду удовлетворен – до самого следующего года.
Савита опасливо приоткрыла дверь. На ней был старый вылинявший шальвар-камиз, а вид у нее был премилый – смеющаяся, осторожная, каждую минуту готова броситься наутек.
Ман держал пакет с розовой пудрой в левой руке. Он покрасил немного лоб своей невестки. Она потянулась к пакету, чтобы покрасить его в ответ.
– И чуточку на щечки, – сказал Ман, продолжая обмазывать ее лицо.
– Хорошо, славно, – сказала Савита. – Очень хорошо. Счастливого Холи!
– И вот здесь еще капельку, – не унимался Ман, втирая пудру ей в шею, плечи и спину, крепко держа ее и слегка поглаживая, когда она пыталась вырваться.
– Ты настоящий хулиган, я больше никогда тебе не поверю! Пожалуйста! – взвизгнула Савита. – Хватит, отпусти меня, Ман, прошу – не в моем положении…
– Ах я хулиган? Вот как, значит? – Ман потянулся за кружкой и погрузил ее в ванну.
– Нет-нет-нет! Я не то хотела сказать. Пран, спаси меня! – крикнула Савита, смеясь и плача; госпожа Рупа Мера в тревоге выглянула в окно. – Только не жидкой краской, Ман, пожалуйста… – завизжала Савита что есть силы.
Но, несмотря на все ее мольбы, Ман выплеснул три или четыре полных кружки холодной розовой водицы ей на голову и размазал мокрую пудру по ее камизу на груди, хохоча без умолку.
Лата тоже смотрела в окно, потрясенная дерзким, фривольным нападением Мана, который явно воспользовался вседозволенностью праздничного дня. Она прямо почувствовала руки Мана на своем теле и затем холодную воду. К ее удивлению, да и к удивлению ее матери, стоящей рядом с ней, она ахнула и содрогнулась. Но ничто не могло заставить ее выйти на улицу, где Ман продолжал предаваться полихромным удовольствиям.
– Хватит! – крикнула Савита в гневе. – Что вы за тру́сы? Почему не поможете мне? Он же под бхангом – я видела его зрачки, – только гляньте ему в глаза!
Прану и Фирозу удалось отвлечь Мана, вылив на него несколько полных спринцовок цветной водицы, и тот побежал в сад. Ноги у него заплетались, и он рухнул в клумбу желтых канн. Затем высунул голову из цветов, чтобы пропеть одну строчку: «Кутилы, это Холи в стране Брадж!» – и снова присел, исчезнув из виду. Минуту спустя он выпрыгнул, словно кукушка из часов, повторил строчку еще раз и снова спрятался. Савита, горя жаждой мщения, наполнила медную лоту цветной водой и сбежала по лестнице в сад. Она подкралась к клумбе. В этот самый момент Ман снова встал, чтобы запеть. Как только его голова показалась среди цветов, он увидел Савиту и кувшин с водой, но было уже слишком поздно. Савита, решительная и яростная, выплеснула все содержимое ему в лицо и на грудь.
При виде ошарашенного выражения на его физиономии Савита начала хихикать. Но Ман снова сел, на этот раз уже рыдая:
– Бхабхи меня не любит! Моя бхабхи меня не любит!
– Конечно не любит! – подтвердила Савита. – А за что мне тебя любить?
Ман заливался слезами, он был безутешен. Когда Фироз попытался поднять его на ноги, он прижался к нему.
– Ты мой единственный дружок! – всхлипывал он. – А сласти где?
Теперь, когда Ман был нейтрализован, Лата решилась выйти и сдержанно поиграть в Холи с Праном, Фирозом и Савитой. Госпоже Рупе Мере тоже досталось немножко краски.
Но Лата не переставала думать, каково это, когда тебя вот так страстно, открыто и интимно вымазывает краской расшалившийся Ман. И это человек, который уже помолвлен! Она никогда не встречала никого, кто вел бы себя так, как Ман, – а Пран даже не рассердился. Странная семья эти Капуры, подумал Лата.
Тем временем Имтиаз, который, как и Ман, перебрал бханга, сидел на крыльце, мечтательно улыбаясь миру, и непрерывно бубнил себе под нос какое-то слово, очень напоминающее «миокардический». Он его то бормотал, то пропевал, а иногда казалось, что он задает миру вопрос – величайший и одновременно не имеющий ответа.
Время от времени он с глубокой задумчивостью трогал маленькую родинку у себя на щеке.
Группка из двадцати студентов или около того – разукрашенных почти до неузнаваемости – показалась на дороге. Среди них даже было несколько девушек, и у одной из них была теперь фиолетовая кожа, но по-прежнему зеленые глаза Малати. Молодежь уговорила профессора Мишру, жившего неподалеку, через пару домов от Прана и его семейства, присоединиться к ним. Не узнать его китоподобное пузо было невозможно, и к тому же краски на профессоре было совсем немного.
– Какая честь, какая честь! – воскликнул Пран. – Но это я должен был прийти к вашему дому, а не вы к моему.
– Оставьте церемонии, не терплю условностей в подобных случаях, – ответил профессор Мишра, поджав губы и прищурив глаза. – Лучше скажите, где очаровательная госпожа Капур?
– Привет, профессор Мишра! Как приятно, что вы пришли поиграть с нами в Холи, – приблизилась Савита с горсткой цветной пудры в руке. – Добро пожаловать! Добро пожаловать, все вы! Привет, Малати, мы все гадали, что с тобой стряслось, – ведь уже почти полдень. Проходите, проходите…
Немножко краски легло на широкий профессорский лоб, профессор поклонился.
Но тут Ман, который до этого безвольно висел на плече Фироза, отбросил соцветие канны, с которым он забавлялся, и с широкой доброй улыбкой направился к профессору Мишре.
– Так это вы и есть тот самый пресловутый профессор Мишра, – приветливо и восторженно произнес он. – До чего приятно познакомиться с таким гнусным типом! – Он тепло обнял профессора. – Скажите мне, а вы и вправду Враг Человечества? – ободряюще спросил Ман. – До чего примечательное у вас лицо, а мимика какая подвижная! – промурлыкал он в благоговейном восхищении, когда у профессора отвисла челюсть.
– Ман! – предостерег Пран.
– И мерзкая! – сказал Ман с искренним одобрением.
Профессор Мишра уставился на него.
– Мой брат называет вас «Моби Дик, великий белый кит», – продолжал Ман в совершенно дружеском тоне. – Теперь я понимаю почему. Пойдемте же поплаваем, – великодушно пригласил он профессора, указывая на ванну с розовой водой.
– Нет-нет, я не думаю, что… – начал профессор, оторопев.
– Имтиаз, дружище, помоги мне, – позвал Ман.
– Миокардический, – сказал тот, выражая тем самым свою полную готовность; они подняли профессора под руки и поволокли к ванне.
– Нет-нет, я схвачу воспаление легких! – завопил профессор Мишра гневно и ошеломленно.
– Прекрати, Ман! – потребовал Пран.
– Что скажете, доктор-сахиб? – спросил Ман у Имтиаза.
– Противопоказаний нет, – заверил Имтиаз, и они вдвоем затолкали профессора в ванну.
Он поднимал волны в ванне и расплескивал вокруг розовую жижу, пытаясь выбраться, мокрый до нитки, ошалевший от злости и стыда. Ман, глядя на него, не удержался от радостного смеха. Имтиаз тем временем благостно ухмылялся. Пран сел на ступеньку, уронив голову на руки. У всех прочих на лицах застыл ужас.
Выбравшись из ванны, профессор Мишра постоял секунду на веранде, дрожа от влаги и прилива эмоций, а потом удалился, капая розовым, по ступеням в сад. Пран был настолько потрясен, что не в силах был даже извиниться. С негодующим достоинством громадная розовая фигура вышла из калитки и исчезла на дороге.
Ман поглядел на собравшихся, ища поддержки. Савита старалась не смотреть на него, все остальные стояли притихшие и подавленные, и Ман смутно почувствовал, что снова почему-то впал в немилость.
2.2
Переодевшись в чистую курту-паджаму после долгого отмокания в ванне, пребывая под счастливым воздействием бханга и теплого вечера, Ман уснул в своей постели в Прем-Нивасе. И снился ему необычный сон: он собирался сесть на поезд до Варанаси, чтобы поехать к своей невесте. Он понимал, что если он не уедет на поезде, то его посадят в тюрьму, только не знал – за какое преступление. Большой отряд полицейских – дюжина констеблей во главе с генеральным инспектором Пурва-Прадеш – сформировал вокруг него кордон, и его вместе с многочисленными селянами в заляпанной грязью одежде и двумя десятками нарядных студенток загнали в вагон. Но он, Ман, забыл что-то и молил, чтобы его выпустили и позволили забрать забытое. Никто не слушал его, и он все больше ожесточался и расстраивался. А потом он рухнул к ногам начальника полиции и билетного контролера и умолял их дать ему возможность выйти: он что-то забыл – не то дома, не то еще где-то – может, на другой платформе, и ему кровь из носу необходимо выйти и вернуть пропажу. Но тут раздался свисток, и его затолкали обратно в поезд. Некоторые женщины смеялись над ним, а он все больше отчаивался. «Прошу, дайте мне сойти», – настаивал он, но поезд, отъехав от станции, набирал ход. Ман поднял глаза и увидел красно-белую табличку: «Для остановки потянуть за цепь. Штраф за ненадлежащее использование – 50 рупий». Он запрыгнул на полку. Селяне попытались ему помешать, но он вырвался от них, схватил цепь и дернул ее что было сил. Но стоп-кран не сработал. Поезд ускорялся, и женщины хохотали над ним уже в открытую. «Я кое-что оставил там», – без устали повторял он, указывая туда, откуда они все уезжали, как будто поезд мог прислушаться к его объяснениям и остановиться. Вынув из кармана бумажник, Ман взывал к кондуктору: «Вот пятьдесят рупий. Только остановите поезд. Умоляю вас – вернемся назад. Я не против отправиться в тюрьму!» Но кондуктор продолжал проверять билеты у других пассажиров, отмахиваясь от Мана, словно тот был безобидным прилипчивым сумасшедшим.
Ман проснулся в поту и испытал облегчение при виде знакомых предметов обстановки своей комнаты в Прем-Нивасе – мягкое кресло, вентилятор под потолком, красный ковер на полу и пять-шесть триллеров в мягкой обложке.
Немедленно выбросив дурной сон из головы, он пошел умываться. Но, увидев в зеркале свою ошарашенную физиономию, живо припомнил лица тех женщин из сна. «Почему они надо мной смеялись? – спросил он сам себя. – И был ли тот смех недобрым?.. Это всего лишь сон», – убеждал он себя. Но сколько бы ни плескал он себе воду в лицо, он никак не мог избавиться от мысли, что объяснение существует, но где-то за пределами его понимания. Он закрыл глаза, стараясь воскресить в памяти обрывки сна, но тот внезапно померк, и теперь от него осталось лишь тоскливое, щемящее чувство, что он где-то что-то забыл. Лица женщин, селян, кондуктора, полицейского стерлись начисто. «Но что же я мог забыть-то? Почему они все надо мной смеялись?»
Откуда-то из недр дома он услышал резкий окрик своего отца:
– Ман! Ман, ты проснулся? Через полчаса гости начнут прибывать на концерт.
Он не ответил и посмотрел на себя в зеркало. Недурственное лицо: живое, свежее, с правильными, сильными чертами. Вот только залысины на висках – как-то это несправедливо в его двадцать пять. Через несколько минут пришел слуга и сообщил, что отец ждет его во внутреннем дворе. Ман осведомился у слуги, не приехала ли еще его сестра Вина, и узнал, что она с семейством приезжала и уже отбыла. Вина, вообще-то, заходила к нему в комнату, но, увидев, что он спит, не велела своему сыну Бхаскару его беспокоить.
Ман нахмурился, зевнул и открыл дверцу платяного шкафа. Его не интересовали ни концерты, ни гости, ему хотелось снова улечься спать, на этот раз без всяких там снов. Так он обычно и проводил вечер Холи в Варанаси – отсыпаясь после бханга.
Внизу начали собираться гости. Большинство из них были в новых нарядах и, не считая легкой красноты под ногтями и под волосами, полностью избавились от разноцветных последствий утреннего веселья. Но все находились в прекрасном расположении духа, и не только благодаря воздействию бханга. Концерты в доме Махеша Капура были ежегодным ритуалом и проходили в Прем-Нивасе с незапамятных времен. Еще его отец и мать устраивали их, и всякий помнил, что концерты отменялись только в те годы, когда хозяин дома сидел в тюрьме.
Сегодня вечером, как и предыдущие два года, пела Саида-бай[99] Фирозабади. Она жила неподалеку от Прем-Ниваса и происходила из семьи певцов и куртизанок. Голос у нее был красивый, глубокий и чувственный. Ей было около тридцати пяти, но слава ее как певицы распространилась за пределы Брахмпура, и теперь ее приглашали участвовать в концертах даже в таких отдаленных городах, как Бомбей и Калькутта. Нынче вечером многие гости Махеша Капура пришли не столько затем, чтобы насладиться радушием хозяев – или, точнее, ненавязчивой и скромной хозяйки, – сколько для того, чтобы послушать Саиду-бай. Ман, который предыдущие праздники Холи провел в Варанаси, слышал ее имя, но никогда не слышал ее пения.
Ковры и белые покрывала были расстелены по всему полукруглому внутреннему двору, который был огражден белостенными комнатами и открытыми коридорами вдоль всего изгиба, а прямой стороной выходил в сад. Не было ни сцены, ни микрофона, ни какой-либо видимой границы или рампы, отделявшей певицу от публики. Не было и кресел – только подушки или валики, на которые можно было облокотиться, да несколько больших горшков с цветами по краям зрительской зоны. Первые гости стояли повсюду, потягивая фруктовый сок или тхандай, грызли кебабы, или орешки, или традиционные сладости праздника Холи. Махеш Капур лично встречал прибывающих гостей, но с нетерпением ждал, когда его сменит Ман, чтобы он мог побеседовать с некоторыми гостями, вместо того чтобы просто обменяться с ними поверхностными любезностями. «Если он не спустится в течение пяти минут, – сказал сам себе Махеш Капур, – я пойду наверх и лично его стащу с кровати. С таким же успехом он мог бы сидеть сейчас и в Варанаси, бесполезный сын. Где этот мальчишка? За Саидой-бай уже отправили автомобиль».
2.3
Вообще-то, машину за Саидой-бай и ее музыкантами отправили уже с полчаса тому, и Махеш Капур начал беспокоиться. Бо́льшая часть публики расселась на подушках, но некоторые гости по-прежнему стояли вокруг и разговаривали. Широко известно, что порой Саида-бай, будучи приглашенной выступить в одном месте, могла под воздействием сиюминутного порыва уехать куда-нибудь еще – навестить старую или новую пассию, увидеться с родней или даже спеть для узкого круга друзей. Она вела себя сообразно своим собственным желаниям. Эта политика или, точнее, тенденция могла бы сильно навредить ей в профессиональном плане, не будь ее голос и артистическая манера настолько пленительными и завораживающими. Была даже некоторая таинственность в этой ее безответственности, если поглядеть на нее в определенном свете. Впрочем, этот свет начал меркнуть для Махеша Капура, едва он заслышал восклицания и рокот голосов у двери: Саида-бай и три ее аккомпаниатора наконец прибыли.
Выглядела она потрясающе. Даже если бы она не спела ни звука, а просто улыбалась бы знакомым, приветливо оглядывая собравшихся и задерживая взгляд на красивом мужчине или красивой (то есть современной) девушке, уже этого хватило бы большинству присутствующих мужчин. Но очень скоро она направилась к открытой стороне двора – той, что выходила в сад, и села рядом с фисгармонией[100], которую слуга принес для нее из машины. Она натянула паллу[101] своего шелкового сари побольше на голову – накидка так и норовила соскользнуть, и одним из очаровательнейших жестов во время всего вечера стали эти изящные попытки поправить сари, чтобы голова не осталась непокрытой.
Музыканты – исполнители на табла, саранги и человек, бренчавший на танпуре[102], – сели и принялись настраивать инструменты, когда она нажала черную клавишу унизанной кольцами правой рукой, мягко нагнетая воздух через мехи левой, также украшенной драгоценностями. Таблаист маленьким серебряным молоточком подтянул кожаные ремешки на правом барабане, сарангист подкрутил колки и взял несколько аккордов смычком на струнах. Публика устраивалась поудобнее, сдвигалась, давая место вновь прибывшим слушателям. Несколько мальчиков, кое-кому едва исполнилось шесть, сели рядом с отцами или дядями. В воздухе чувствовалось радостное предвкушение. Неглубокие чаши с лепестками роз и жасмина пустили по кругу: те, кто, подобно Имтиазу, все еще не отошел от бханга, с наслаждением склонялись над ними, вдыхая мощный аромат.
Наверху, на балконе, две менее современные женщины смотрели вниз сквозь щели в тростниковой ширме и обсуждали наряд Саиды, узоры на нем, ее лицо, манеры, предысторию и голос:
– Хорошее сари, но ничего особенного. Она всегда носит шелка из Варанаси. Сегодня красный. В прошлом году был зеленый. Светофор прямо.
– Посмотри, какое шитье зари[103].
– Весьма пышное, весьма – но, я полагаю, все это необходимо, при ее-то профессии, бедняжка.
– Ну уж не скажи. Тоже мне «бедняжка» – погляди на драгоценности. Это тяжелое золотое ожерелье, эта эмаль тонкой работы…
– Как по мне, немного отдает дурным вкусом.
– Ну и что, говорят, что это ей подарили люди из Ситагарха.
– О!
– И многие кольца тоже. Я думаю, она в любимицах у наваба Ситагарха. Говорят, он обожает музыку.
– И музыкантш?
– Естественно. Теперь она приветствует Махешджи и его сына Мана. Он, кажется, очень доволен собой. А это же губернатор, который…
– Да-да, все они, эти конгресс-валлы, одинаковы. Разглагольствуют о простоте и скромной жизни, а сами приглашают подобных людей развлекать своих друзей.
– Ну. Она ведь не танцовщица или что-то подобное.
– Не танцовщица. Но ты не станешь отрицать ее профессию.
– Но твой муж тоже пришел.
– Мой муж!
Обе дамы, одна из которых была женой врача-отоларинголога, а вторая – супругой важного комиссионера обувной торговли, посмотрели друг на дружку с выражением раздраженной покорности обычаям мужчин.
– Теперь она здоровается с губернатором. Гляди, как он ухмыляется. Такой толстый коротышка – но, говорят, очень влиятелен.
– Арэ[104], а что этот губернатор делает, кроме как ленточки разрезает да роскошествует в своем правительственном доме? Ты слышишь, что она говорит?
– Нет.
– Каждый раз, когда она трясет головой, бриллиант у нее в носу так и вспыхивает. Что твоя фара в автомобиле!
– Это авто много пассажиров повидало в свое время.
– Да какое там время! Ей всего тридцать шесть. У нее гарантия еще на много миль пробега. А все эти кольца! Неудивительно, что она всем подряд творит адаб[105].
– В основном бриллианты и сапфиры, хотя мне отсюда не слишком хорошо видно. Ох, какой большой бриллиант на правой руке…
– Нет, это белый… как его там… хотела сказать «сапфир», но это не белый сапфир. Мне кто-то рассказывал, что он даже дороже бриллианта, но я не помню, как этот камень называется.
– И зачем она носит все эти стеклянные браслеты вместе с золотом? Смотрятся довольно дешево!
– Ну не зря же ее называют «Фирозабади». Даже если ее предки – по женской линии – и не родом из Фирозабада[106], то по крайней мере ее стекляшки – точно оттуда. О-хо-хо! Гляди, как она строит глазки молодым мужчинам!
– Бесстыдница.
– Этот бедный юноша не знает, куда глаза девать.
– Кто он?
– Хашим, младший сынок доктора Дуррани. Ему всего восемнадцать.
– Хммм…
– Очень хорошенький. Смотри, какой румянец.
– Румянец! Все эти мальчики-мусульмане только прикидываются девственниками, но души у них похотливые, вот что тебе скажу. Когда мы жили в Карачи…
Но в эту минуту Саида-бай Фирозабади, завершив обмен приветствиями с разнообразными представителями зрительного зала, тихо что-то сказала своим музыкантам и, засунув пан за правую щеку, дважды кашлянула, прочищая горло, и запела.
2.4
Стоило этому чудесному горлу издать всего несколько звуков, как тут же раздались восторженные «вах!», «вах!» и другие благодарные возгласы аудитории, вызвавшие признательную улыбку на губах Саиды-бай. Она, несомненно, была прекрасна, но в чем именно заключалась ее восхитительность? Большинство мужчин с трудом смогли бы подобрать слова, чтобы объяснить это, однако женщинам наверху стоило быть более проницательными. Внешне она выглядела приятно, не более того, однако у нее имелись все атрибуты выдающейся куртизанки – маленькие знаки благоволения, наклон головы, сверкающее украшение в носу, восхитительная смесь прямоты и избирательности в ее внимании к тем, кого она завлекала, отличное знание поэзии на урду, в частности газелей, которое не сочли бы поверхностным даже знатоки. Однако куда большее значение, чем все это, чем ее одежда, драгоценности и даже ее исключительный природный талант и музыкальное образование, имела щемящая сердечная боль в ее голосе. Откуда она произрастала, никто точно не знал, хотя слухи о ее прошлом были достаточно распространены в Брахмпуре. Даже эти женщины не могли сказать, что ее печаль была наигранной. Она казалась одновременно смелой и ранимой. Именно перед таким сочетанием устоять было невозможно.
Поскольку это был Холи, она начала свое выступление с нескольких песен Холи. Саида-бай Фирозабади была мусульманкой, но спела эти счастливые описания юного Кришны[107], играющего в Холи с коровницами из деревни своего приемного отца, с таким обаянием и энергией, словно ей довелось увидеть эту сценку воочию. Мальчишки в зале смотрели на нее с удивлением. Даже Савита, которая впервые присутствовала на Холи в доме свекра и свекрови и пришла скорее по обязанности, чем ради удовольствия, вдруг ощутила неподдельную радость.
Госпожа Рупа Мера, разрываясь между необходимостью защищать свою младшую дочь и неуместностью присутствия ее поколения, особенно вдовы, в сформированной части аудитории внизу, настрого приказав Прану не спускать глаз с Латы, исчезла наверху. Она наблюдала через щель в тростниковой ширме, говоря госпоже Капур:
– В мое время ни одной женщине не было позволено находиться во дворе в такой вечер.
Со стороны госпожи Рупы Меры было немного несправедливо высказывать такие упреки тихой и ранимой хозяйке, которая действительно говорила об этом своему мужу. Но от ее возражений просто нетерпеливо отмахнулись на том основании, что времена меняются.
Во время концерта гости то входили во внутренний двор, то выходили в сад, и Саида-бай, краем глаза уловив движение где-то среди публики, поприветствовала жестом нового гостя, и гармоническая линия ее аккомпанемента прервалась. Но скорбных звуков смычка на струнах саранги, словно тени ее голоса, было более чем достаточно, и она часто оборачивалась к музыканту и благодарила его взглядом за особенно красивую имитацию или импровизацию. Однако наибольшее внимание досталось молодому Хашиму Дуррани, сидящему в первом ряду и краснеющему, словно свекла, каждый раз, когда она прерывала пение, чтобы сделать колкое замечание или посвятить ему какое-нибудь случайное двустишие. Саида-бай славилась тем, что в начале выступления выбирала среди слушателей одного человека и посвящала все свои песни ему, – он становился для нее жестоким убийцей, охотником, палачом и кем угодно еще, – собственно, он становился героем для ее газелей.
Саида-бай больше всего любила петь газели Мира[108] и Галиба, но также ей по вкусу были и Вали Деккани[109], и Маст, чьи стихи не пользовались большой популярностью у местных жителей, поскольку тот провел большую часть своей несчастной жизни, читая впервые многие из своих газелей в Барсат-Махале культурно обделенному навабу Брахмпура, прежде чем его некомпетентное, обанкротившееся и лишенное наследников княжество было захвачено Британией. Так, первой из ее газелей в этот вечер стала именно газель Маста. И стоило ей спеть лишь первую фразу, как восхищенная публика разразилась ревом признательности.
«Не наклонялась я, но ворот порван мой…» – начала она, прикрыв глаза.
Не наклонялась я, но ворот порван мой,
хоть все шипы в траве, ничуть не выше.
– Ах! – беспомощно произнес судья Махешвари. Его голова на пухлой шее затряслась в экстазе.
А Саида-бай продолжала:
Могу ль невинной быть в чужих глазах,
судя меня, ловца готовы оправдать они же…
Тут Саида-бай бросила взгляд, исполненный одновременно томления и укора, на бедного восемнадцатилетку. Он тут же опустил глаза, а один из друзей толкнул его и восторженно спросил:
– Могу ль невинным быть? – что смутило юношу еще сильнее.
Лата сочувственно посмотрела на парня и с восхищением – на Саиду-бай.
«И как это ей удается? – подумала она, восторгаясь и чуточку ужасаясь. – Их чувства словно податливая глина в ее руках, и все эти мужчины могут лишь ухмыляться и стонать! И Ман – хуже всех!» Лате обычно нравилась более серьезная классическая музыка. Но теперь она, как и ее сестра, тоже наслаждалась газелью, а еще, хоть это и было странно, преображенной романтической атмосферой Прем-Ниваса. Как хорошо, что ее мать ушла наверх.
Тем временем Саида-бай, протянув руку к гостям, пела:
Святоши так минуют дверь таверны —
терплю, как смотрят на меня, но не подходят ближе.
– Вах, вах! – громко воскликнул Имтиаз позади.
Саида-бай наградила его ослепительной улыбкой, затем нахмурилась, словно испугавшись. Однако снова взяла себя в руки и продолжила:
Бессонной ночи вслед легчайший ветерок
шевелит воздух городской и ароматом дышит.
О чем теперь мне петь, совсем не вижу я,
пойду куда глаза глядят – меня услышат.
– Куда глаза глядят – меня услышат! – пропели одновременно двадцать голосов.
Саида-бай вознаградила их энтузиазм кивком. Но безбожие этого двустишия было превзойдено безбожием следующего:
Склоню колена, Кааба[110] сердца моего,
и жду с молитвой взор твой будто свыше.
В рядах зрителей послышались вздохи, прокатился дружный стон. Ее голос почти сорвался на слове «свыше». Только совершенно бесчувственный чурбан посмел бы это порицать.
Ослеплена, как солнцем я, о Маст,
Вдруг облака волос и лунный лик увижу…
Ман был настолько тронут той почти декламационной выразительностью, с которой Саида-бай исполнила последнее двустишие, что невольно воздел к ней руки. Саида-бай закашлялась, прочищая горло, и загадочно взглянула на него. Ман ощутил жар и дрожь во всем теле и на какое-то время потерял дар речи, зато воспроизвел ритмический рисунок аккомпанемента на голове одного из своих деревенских племянников лет семи.
– Что вы хотите услышать следующим, Махешджи? – спросила его отца Саида-бай. – До чего чудесную публику вы всегда собираете в вашем доме! И такую осведомленную, что я порой чувствую себя лишней! Стоит мне лишь пропеть два слова – и вы, господа, завершаете газель!
Раздались восклицания: «Нет-нет!», «Что вы такое говорите?» и «Мы лишь ваши тени, Саида-бегум!»[111].
– Я уверена, что это не из-за моего голоса, а лишь благодаря вашей милости и милости Того, Кто наверху, – добавила она, – сегодня вечером я здесь. Я вижу, что ваш сын так же признателен мне за мои скромные усилия, как и вы были в течение многих лет. Должно быть, это в крови. Ваш отец, пусть он покоится с миром, был полон доброты к моей матери. И теперь я получаю вашу милость.
– Кто из нас кому оказывает милость? – галантно ответил Махеш Капур.
Лата невольно посмотрела на него с некоторым удивлением. Ман поймал ее взгляд и подмигнул. И она невольно улыбнулась в ответ. Теперь, когда они были родственниками, она чувствовала себя с ним не так скованно. Она вспомнила его утренние выходки, и улыбка вновь приподняла уголки ее губ. Теперь всегда, сидя на лекциях профессора Мишры, Лата невольно будет вспоминать уморительную картину: как он вылезает из ванны, мокрый, розовый и беспомощный, словно младенец.
– Однако некоторые молодые люди столь молчаливы, – продолжала Саида-бай, – что они сами могут быть идолами в храмах. Возможно, они так часто вскрывали свои вены, что у них не осталось крови, а? – очаровательно рассмеялась она.
Ах, сердце мотыльком летит на яркий свет…
Сегодня мой герой блистательно одет!
Молодой Хашим виновато окинул взглядом свою синюю вышитую курту. Но Саида-бай безжалостно продолжала:
Как его вкусу не воздать хвалу?
Он кажется мне принцем на балу!
Поскольку во многих стихах на урду, как и во многих из более ранних по времени персидских и арабских стихах, поэты обращались к молодым людям, Саиде-бай было несложно найти такие озорные отсылки к мужской одежде и манере поведения, чтобы было понятно, в кого летят ее стрелы. Хашим мог краснеть, гореть и кусать нижнюю губу, но ее колчан был бездонен. Она посмотрела на него и продолжила:
Алые губы твои – со вкусом медвяной росы.
О, Амрит Лал! – истинно имя твое.
Друзья Хашима к этому времени уже содрогались от смеха. Но, должно быть, Саида-бай поняла, что он больше не вынесет любовной травли, и смилостивилась, предоставив ему небольшую передышку. К этому моменту публика осмелела достаточно, чтобы выдвигать свои предложения, и после того, как Саида-бай, потакая своему вкусу, слишком интеллектуальному для столь чувственной певицы, исполнила одну из наиболее сложных и насыщенных аллюзиями газелей Галиба, кто-то из публики предложил одну из своих любимых – «Где встречи те? Где расставания?».



