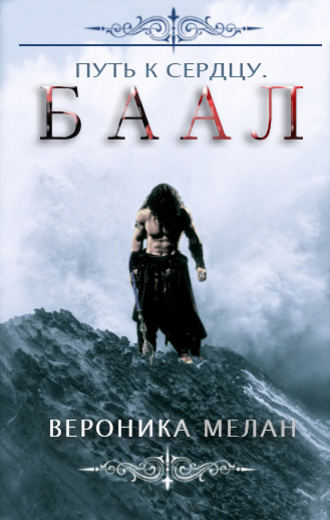
Вероника Мелан
Путь к сердцу. Баал
Как можно позволить себе человека, ведь он не игрушка?
«Для матери – все игрушки», – мелькнула злая мысль, и сидящая у окна Алька уткнулась грустным взглядом в обнаженную жилистую спину.
А ведь он совсем один – ни друзей, ни соседа, чтобы перекинуться словом, ни питомца, чтобы приласкать. Просыпается один, работает один, засыпает один. За личность его не считают, о желаниях не спрашивают, платят крохи – чем он живет? Где находит в себе силы, чтобы не сдаться, во что верит, чтобы держаться на плаву? Может, в какую-то одному ему известную мечту?
Ощущая жалость, нежность и щемящую тоску к тому, чьего имени ей даже знать не дозволялось, Алеста вдруг сделала запретное – позволила сердцу открыться и мысленно направила золотой сияющий поток женской любви на стоящего у кустов паренька – ведь никто не видит? Пусть ему на секунду станет теплее, пусть он почувствует неизвестно откуда взявшуюся поддержку, пусть ощутит, как его изнутри коснется ласковая материнская рука – «ты не один, сынок…», – пусть…
Додумать она не успела. Позади щелкнул замок, и в комнату вошла Ванесса Терентьевна – Алькино сердце моментально сорвалось в галоп – ведь она не увидела, не успела, не засекла?! Поток любви прервался, как обрубленный, дыхание застряло в горле.
А мать увидела.
Потому что решительным шагом приблизилась к дивану, потому что с красным от злости лицом отвесила дочери такой подзатыльник, что та едва не кувыркнулась на пол; потому что долго стояла со сжатыми в полосу губами и полыхала злыми глазами так яростно, что едва не прожгла Алесте череп, а вместе с ним и каменную кладку стены сзади.
– Ты, – прошептала она наконец тихо, но оттого не менее свирепо, – ты… Если ты еще раз нарушишь закон и пошлешь Любовь какому-то отбросу, я самолично отведу тебя в Холодные Равнины и там оставлю. Поняла меня, дура?
Дура, которая Алеста, которая не Констанция.
– Как ты вообще могла от меня родиться? Такая.
Последнее слово прозвучало ругательством куда худшим, чем дура.
Глядя на то, как прародительница твердой, почти солдатской походкой выходит из комнаты, Алька стерла со щек слезы.
«Действительно. Как?»
Любить больше не хотелось, мечтать тоже. Вообще больше ничего не хотелось.
* * *
Наверху пахло досками, стружкой, рассохшимися шкафами и сложенными в углу одеялами. Одним из таких Аля укрылась, забравшись на скрипучую софу, и теперь лежала, глядя на далекие перемигивающиеся за раскрытым чердачным окном звезды.
Ночь.
Из распахнутых створок тянуло скошенной травой и тиной с пруда; уснул сад, давно скрылся в сарае садовник, давно посапывали в собственной спальне родители. Даже Хельга, которая сразу после ужина ушла в собственную квартиру, чтобы «покувыркаться» с блондином, наверное, тоже уже спала.
Только Алька бодрствовала. Алька и куча сверчков в росистой траве.
Глаза не слипались, а перед мысленным взором стоял Храм Деи – стоял таким, каким Алеста его себе представляла: белокаменным, с колоннами, с широкой мраморной лестницей у входа, пахнущий свечами и воском изнутри. На самом деле Храм мог оказаться совершенно другим – его никто никогда не описывал и почему-то не рисовал – например, темным сводчатым или же кирпичным с башнями, – но Альке он всегда чудился снежно-белым. Что будет там, внутри – прислужницы? Выйдет ли ее встречать сама Богиня? Как произойдет процесс помещения в чрев дитя? Это больно? Неизвестно, а книги по религии называли сей процесс «священным таинством» и описывать его запрещали.
Ну и ладно. Не больно-то и хотелось знать, как, и вообще идти туда. Вот только надо, придется: сначала через главные ворота по пропуску, где ее будут провожать сотни молящихся горожанок – ритуал; – затем по кромке леса; затем несколько километров по священному тракту – с одной стороны возможны засады «диких», с другой – Холодные равнины; потом в гору. Говорят, в гору недалеко – там проще всего…
Скоро она сама все увидит.
Мысли о Храме не несли ничего, кроме тоски. Алька плотнее укуталась в тонкое одеяло и отвернулась к стене, закрыла глаза. Почему она решила спать на чердаке – потому что здесь всегда сквозняк и свежо? Потому что сюда никогда не поднимается мать? Потому что здесь до сих пор пахнет бабушкой?
Бабушка жила на чердаке два последних года – сюда ее «вселила» мать. У Агафьи болели ноги, и потому вниз она спускалась редко (почти никогда) – на чердак еду носила Алька. Но если уж Агафья все-таки по-старчески упиралась и, опираясь дрожащими морщинистыми руками на шаткие перила, спускалась-таки вниз, на семью неизменно обрушивались ссоры. Спорили всегда насчет одного и того же – воспитания и системы.
– Одумайся уже, окаянная, – орала бабушка на Ванессу, – ты что творишь-то? Я, понятное дело, дура была, когда поверила в Конфедерацию, – тебя воспитала, эгоистку, а потом еще и Хельгу помогла, – но ведь одумалась! Посмотри по сторонам, Ванесса, неужели не видишь, во что превратился мир? Что мы творим, что, безбожные, делаем?
И Ванесса всякий раз вскидывалась так, что багровела лицом:
– Из ума выжила, старая! Я тебя в дом престарелых не сдала только из любви…
– Из какой любви? Ты забыла, что это такое! Забыла! Затюкала в доме всех, самоуправством занялась, чванливая стала. Кого я вырастила? Кого воспитала?
– Да у меня зарплата…
– Да забудь ты про свою зарплату – все на деньги, да про деньги! В кого превратилась ты – матрона напыщенная! Еще и Хельгу копией своей сделала. Но Альку я не дам! Не дам из нее дуру сделать – не порть мне вторую внучку!
Иногда Алька думала, что мать ненавидит ее из-за Агафьи – из-за крепкой любви бабушки к младшенькой, из-за возможности рассказать той, «как на самом деле устроен мир». Ведь не перестанешь кормить родительницу? Не запретишь Альке носить наверх еду – не самой же?
Так Алеста и жила меж двух огней. Часто сидела на чердаке, слушала истории из далекой и молодой Агафьиной жизни, учила по бабушкиным словам историю – не ту, что написана в учебниках, а другую – настоящую, – и разрывалась в попытках понять, где есть гармония – там, где мужчины свободны, или там, где они «рабы»? Потому и в колледже принялась углубленно изучать «мужскую психологию» и выпускную диссертацию решила писать на тему: «Природа Женской Любви. Ее свойства, биохимическое устройство и возможности влияния».
Написать-то написала, вот только что «хорошо», а что «плохо», несмотря на сотни прочитанных книг, так внутри до конца разобраться и не сумела – лишь чувствовала, что гармония должна быть где-то посередине, не в крайностях.
А чердак постепенно навевал сон; стихли за окном цикады, поглаживал листву кустарников ветер, плеснула в пруду рыбина. Чердак пах бабушкой.
Глава 2
Эти отличались от тех, которых она видела вчера в загоне, как небо и земля. Как домашняя кошка отличается от дикой пумы, как розовый молочный поросенок от свирепого лесного вепря – то есть полностью. Нет, Аля, конечно, читала, что «дикие» ростом и физическим развитием превосходят мужчин внутри Стены, но чтобы настолько? Каким трудом можно раскачать до подобных бугров плечи, до состояния нагрудника огромную, будто вздутую изнутри, грудную клетку, до жилистых стволов ноги? Сколько нужно бегать, соревноваться, драться, выживать?
Судя по злым глазам – много.
А взгляды у двух пленников были не просто злыми – они стирали весь строй аккуратных, одетых в выглаженные юбочки и расставленных вдоль стены пай-девочек в крошку – жгли его, дробили, ненавидели. Их – двух «диких» – выловили сегодня у самой Стены – те рыскали в ближайшем ельнике с луками наперевес – выискивали точку, чтобы сбить стражниц. Если стражниц сбить, откроются ворота, а если откроются ворота, есть шанс организовать нападение и прихватить с собой пару «баб».
От слова «баб» Алесту тошнило. А еще ее тошнило от вида грязных стоп, нестриженых ногтей, длинных сальных волос, кустистых бород и исходящего от огромных тел аромата – смрада немытой потной кожи. Еще меньше хотелось смотреть на дородный, судя по всему, «орган», колышущийся при каждом движении (толчке в спину) под набедренной повязкой.
Толкали «диких» стражницы – не менее злые, нежели пленники. Дергали за опутывающие запястья за спиной цепи, пихали кулаками в затылок, при любом движении впивали острые наконечники пик под колени. От очередного такого тычка мужик с черными путаными волосами гортанно взвыл – ругаться словесно ему не позволяла воткнутая в зубы, как это часто делали с конями, деревяшка. Второй, выше ростом, сносил унижения молча, лишь злобно скалился.
– Вот с кем вам, возможно, придется встретиться за Стеной! Теперь это понятно? Наглядно? Редко какая группа учениц имеет возможность посмотреть на «диких» вживую, а стоило бы! Так и будете размахивать мечами, как дирижерской палочкой? Так и будете танцевать вокруг манекенов, как на балу, надеясь, что пронесет? А если не пронесет?! – желчно вопрошала затянутая в кожаную с металлическими пластинами броню стражница. – В курсе, что будете каждый час раздвигать ноги перед таким вот… уродом?
На этот раз «уроды» от негодования взвыли оба; Алю затошнило сильнее – непроизвольно сжались пальцы, легко и слишком гулко, неправильно застучало сердце. Ей совсем не хотелось представлять, как подобный мужик громоздится на нее, как силой раздвигает ноги, как всовывает внутрь огромный немытый, как и все остальное, член (она точно видела по очертаниям, что огромный), дрыгается на ней, хрипит. А что, если еще и будет бить? Что, если будет делить с дружками? Вдвоем, втроем… Говорят, они продолжают совокупляться даже с беременными, а если та выкинет, то насилуют ее уже на следующий день, чтобы зачала опять.
Шагая по залитой утренним светом улице к школе, она не думала, что через полчала будет леденеть от страха. А теперь леденела, судорожно сглатывала, старалась не сталкиваться с «дикими» глазами, не дышать. Как туда идти? Как прикажете не бояться, если такие вот так близко? Одно дело было читать о них в учебнике, другое – видеть наяву.
Наяву оказалось страшнее. Этим утром Алеста Гаранева впервые допустила мысль о том, что права Конфедерация, а не бабушка – не надо им любви, не надо им тепла, не надо ласки. Убивать таких. А если и не убивать жестоко, то отпугивать так далеко, чтобы вообще не приближались к Стене! От осязаемости величины предстоящего риска ей впервые в жизни захотелось истерить – вернуться домой и кричать, что никуда она не пойдет! И пусть она трус, пусть она предатель и все рухнувшие материны надежды в одном лице, пусть она кто угодно, лишь бы не в Поход!
Но то внутри.
А на лицо Алеста не изменилась – лишь плотно сжала зубы и с отстраненной остервенелостью решила, что драться она научится. По-настоящему, жестоко и больно. Чтобы наверняка.
– Эй, ты что! Ты что?! Изрубишь меня на куски!
Одетая в сползший набок защитный шлем и прижатая к самой стене Ташка выставила перед собой руки и вытаращила глаза.
– Прекрати! Алька, остановись!
Второй деревянный меч уже валялся метрах в трех на полу, ловко выбитый предыдущим ударом, – потная Алеста все наступала.
– Сдаю-ю-юсь! – заверещала подруга так громко, что подоспела тренерша – дернула Альку за плечи, гулко хлопнула по шлему, резко развернула к себе лицом.
– С ума сошла, Гаранева! Меч, хоть и деревянный, но это меч! Поругались, так выясняйте отношения по-другому!
Взмыленная Алька очнулась только сейчас – до этого она видела перед собой не подругу, а «дикого», желающего навсегда ее поработить – и била его, била, била…
– Прости…
Хриплого выдоха из-под шлема не услышал никто. Вокруг них, оказывается, уже собралась толпа – все смотрели на бешеную ученицу – ее потную спину, израненные деревянной рукояткой до пузырей ладони, дрожащие пальцы – шушукались, обсуждали, толкали друг друга локтями.
– Простите, я… забылась.
– Забылась она! Марш в душ, и чтобы сегодня я тебя больше не видела!
Шлем давил виски, форма липла к телу – она остыла и теперь холодила кожу, – ладони зудели, а перед глазами чередовалось то испуганное лицо Ташки, то выпученные глаза «дикого» – я тебя подомну под себя, иди сюда, непокорная баба…
Смущенная собственным поведением и чувствуя себя сбрендившей, Алеста развернулась и зашагала к выходу из зала. Ей действительно нужно остыть, успокоиться, принять душ и унять не на шутку разыгравшееся воображение.
* * *
«…Господь создал мир и других Богов. Он создал нас – женщин, – дабы мы Любовию своей прославляли его, несли в дома уют, воспитывали детей и хранили тепло семейного очага. Он так же создал и мужчин, дабы они славили его трудом, подвигами и благими делами. И никто не повинен в том, что нынешнее поколение мужчин – нечета бывшим праотцам нашим – те были достойны почестей, и потому, храня уважение к далеким корням, Конфедерация оставила новорожденным право именоваться сразу после имени Отчеством, а не Матчеством, как то было бы верно исходя из сложившейся ситуации.
Мы чтим наших далеких Отцов, как чтим и Господа нашего, ибо все в этом мире есть дети его. Ныне матери могут избирать детям то Отчество, которое сочтут наиболее благозвучным, независимо от того, чей это ребенок – мужнин или рожденный от Великой Деи…»
Осознав, что зачиталась совсем не тем, Алька отложила в сторону оставленный кем-то на столе томик «Религии в социальном устрое» и вернулась к газетам.
Она провела в библиотеке уже три часа – искала данные о похищениях «дикими» женщин Общины, – но статистика, словно ловкий жонглер, укрывала цифры.
«Не о чем беспокоиться, – призывали успокоиться статьи, – ситуация под контролем. Пропадают немногие. Почти никто. Редко. Мы работаем над тем, чтобы восстановить порядок и правосудие и однажды свести цифры к нулю…»
Но какие цифры? Скольких похищали на пути к Храму? Многих?
Этот вопрос сделался для Алесты болезненным.
В пустом в этот час зале витало эхо – прохаживался у дальних стеллажей библиотекарь, изредка поглядывал на посетительницу – не начнет ли втихаря рвать страницы книг на память? – потом успокоился, уселся за стол, притих.
От голода ныл желудок; в косых солнечных лучах танцевали пылинки, хотелось чихать, но Алеста домой она не спешила. Вот отыщет данные, узнает правду, а потом отложил в сторону газеты. Потому что если не узнает…
И вдруг мелькнула странная мысль: а если узнает, станет легче? Пусть прочтет, что исчезает три или четыре человека в месяц – что это изменит? Ведь даже если до тебя не было ни одного, всегда можно стать первым, так?
«Страх – это фантом, который рисует в твоем воображении картины, Аленька. Он показывает тебе не то, что случится – оно ведь может никогда и не случиться, – а то, чего ты боишься. То есть не реальный мир, а вымышленный, искаженный твоей собственной боязнью. Всегда гони его, внучка, не позволяй над собой властвовать…»
Бабушка была мудра. Мудры были и вторившие бабушкиным словам учебники по психологии, которых Алька прочитала достаточно, вот только смелость от них не рождалась. От них рождалось лишь понимание, что в правильной пропорции страх способен уберечь человека от опасности, а в неправильной вызвать излишнюю тревогу, волнение и даже нервный срыв.
Судя по сегодняшним выпученным глазам Ташки, страх в голове Алесты сместился к пропорциям крайне неправильным.
Да уж.
И как же теперь вернуть все обратно?
Полдничала Аля в одиночестве – все на работе: отец на бумажной фабрике, Хельга в Управлении труда, мать, как всегда, в центральном отделе статистики.
«Наверное, как раз подделывает те самые цифры в газетах».
Вчерашние котлеты казались вкуснее холодными; с летней кухни домработница Клавдия не зло покрикивала на какого-то Нила – Алька не сразу поняла, что Нилом зовут молодого садовника.
Сегодня на него смотреть не хотелось, не после «диких» – в районе затылка ползали неприятные мысли: «а что, если мать права? Перепошлешь такому любовь, и он сделается, как те?»
Котлета, еще котлета, кусочек ржаного хлеба, компот.
Телевизор молчал; неровно тикали оставшиеся от бабушки часы на комоде – внутри рассохшегося деревянного ящика устало покачивался медный маятник, чучельная кукушка давно не высовывалась из отверстия – сломалась.
Вот бы ходить к Дее с охраной, со стражницами, да только пробовали – и возвращались ни с чем. Каждый раз одно и то же: если стражницы проводят девушку хотя бы до половины пути, то оплодотворения не произойдет. Почему? Загадка.
Может, Дея любит исключительно смелых?
Абрикосы в компоте сморщились и разбухли одновременно – Аля выудила их со дна ложкой, съела мякоть, отложила косточки на блюдце и поднялась из-за стола. Перемыла посуду, вытерла ее вафельным полотенцем и поставила на полку – мать не терпела беспорядка. Конечно, если оставить на столе, уберет и Клавдия, но зачем ей дополнительные заботы, когда и у домочадцев руки целые?
Ну, почти целые.
Алеста хмуро взглянула на стертую кожу ладоней, вздохнула и отправилась в ванную за мазью.
Она точно знала, куда идет, хоть и не желала себе в этом признаваться.
Миновала ровные ряды жилых улиц с аккуратными домами и палисадниками, прошла мимо автобусной остановки – туда, куда ей нужно, автобусы не ходили, – вышла на центральную аллею.
Лиллен грелся в теплых лучах солнца – еще не закатного, но уже давно миновавшего зенит. По правую сторону звенел фонтанами парк – в глубине за оградой желтели скамейки, вдоль них прогуливались молодые мамы с колясками; малышня с яркими совками возилась в песочницах на детских площадках. Тянуло сладкой ватой, цветущей лавелией и нагревшимися за день листьями папоротника.
Лето только началось. В половине шестого уже не жарко, но исключительно хорошо для ситцевой блузки, открытых туфелек-лодочек и развевающейся на теплом ветру, ласкающей колени юбки.
Еще бы знать, что впереди только хорошее, что когда пролетят эти три месяца, будущее расстелится безмятежной гладью – спокойной и манящей. Знать бы.
«Уверенность есть вера, – всплыли из ниоткуда строчки из учебника, – а вера достигается усилием и решимостью верить в хорошее. Осознанным выбором, склоняющим чашу весов от негативного к позитивному. Чтобы научиться верить, требуется внутренний запас сил, который восполняется сразу же, стоит вере занять прочное место в сомневающемся сознании…»
Где бы только ее взять – эту решимость?
Алька неслышно вздохнула и направилась прочь от парка, от центральных улиц, к окраине. Шла долго, даже устала, но сорок минут спустя достигла цели – широкой асфальтированной дорожки, тянущейся вдоль Великой Стены.
Здесь никто не прогуливался – сюда вообще старались заглядывать как можно реже – все-таки Стена, а за ней опасно – лишь расположившиеся на удалении друг от друга стражницы отдыхали в тени деревьев.
Одна из таких, одетая в военную форму, курила неподалеку от Алька, изредка поглядывала на Стену; из-под дерева плыл табачный дым.
В городе курили редко – считалось немодным. Мужчинам эту пагубную привычку запрещали совсем – нечего портить качество спермы, – а вот женщины изредка баловались тонкими папиросками, вставленными в длинный мундштук. Аля не курила. И таких толстых коричневых сигарет, как держала в пальцах стражница, до этого никогда не видела.
– Ты чего здесь забыла? – спросила та, стоило Алесте приблизиться. Не зло спросила и не добро – просто поинтересовалась. – Заблудилась, что ли?
– Нет.
У Альки не то от волнения, не то от мази зачесались ладони. Кто еще сможет ответить на ее вопрос, если не женщина в форме? Ведь она дежурит здесь сутками, а, значит, знает куда больше, чем лживые газеты. Вопрос лишь – скажет ли?
– Я… – нервы дали о себе знать запершившим горлом, – мне… мне идти скоро.
– Туда, что ли?
Женщина с короткой стрижкой качнула головой в сторону Стены.
– Туда.
– А-а-а…
«А-а-а» прозвучало непонятно – не то сочувственно, не то равнодушно.
– И я волнуюсь.
– Ну. Все волнуются.
Было видно, что стражнице диалог не нужен, и Алька заторопилась объяснить, пока ее не отправили восвояси.
– Нам просто «диких» сегодня показывали – какие же они… страшные.
– Те, которых сегодня изловили?
– Да, двоих.
– Слышала.
– И я… я подумала спросить,… а часто похищают?
Незнакомка в форме в какой-то момент напряглась, поджала губы, взглянула из-под фуражки неприветливо – на Стене в башнях перекликивались дозорные, – затем уловила в Алькиных глазах настоящих испуг и чуть размякла.
– Не велено нам говорить. Но часто, да. В месяц человек шесть-семь.
«Шесть-семь?!» – это много, очень много! Гораздо больше, чем вещала благостная газетная статистика. Какое там «не о чем беспокоиться»?
– Только сегодня вот одну опять… умыкнули. Гады недоделанные. Не отбили мы ее.
Стражница наклонилась и аккуратно затушила окурок о землю.
– А назад? Многие из них возвращаются назад?
Але отчаянно сильно хотелось верить в хорошее, невероятно хотелось.
– Назад? – дама в фуражке посмотрела на незнакомку, как на умалишенную. – Дура, что ли? Назад никто не возвращается. Никогда.
И она взглянула наверх, на башни, над которыми безмятежно и легко плыли по синему небу далекие белые облака.
Ташка перестала дуться после троекратного «прости». Важно кивнула Альке, слезла с деревянной скамейки за собственным домом и со словами «ты же еще не ужинала» убежала внутрь. Вернулась с двумя пластиковыми баночками йогурта и ложками – Алеста по-доброму хмыкнула: чем бы ни ужинали Эльза Геннадьевны и ее дочь, котлетами это точно не являлось. Здесь не готовили ежевечерний ужин, не садились за стол вместе, не вели чинных разговоров.
«Не компостировали друг другу мозги».
После Похода к Дее мать Ташки мужа заводить не стала – не пожелала осквернять тело мужскими прикосновениями, и потому в доме часто царила тишина – сама она читала наверху, дочь находила дела внизу. А еще, наверное, из-за отрицательного отношения матери к мужскому полу, Ташка приобрела к нему же интерес исключительно положительный – ей во что бы то ни было хотелось «попробовать мужчину», но она пока не решалась.
– Ешь!
Тощая рука с веснушками решительно пододвинула к Альке йогурт; крыльцо задней веранды утопало в саду – не ухоженном, как в родном доме, а диком, заросшем всем подряд и оттого почему-то уютным. Натуралистичность нравилась и Ташке, и Альке, но только не хозяйке дома, однако денег на садовника все равно не было – управляя химчисткой, Эльза Геннадьевна зарабатывала немного. И неубранный сад шумел, колыхался листьями лопуха, пестрел цветущим осотом.
Алька посмотрела на йогурт, поджала колени теснее к груди и отвернулась. Прищурила глаза, процедила отрывисто:
– Я не хочу. Туда. Идти.
Они обе знали «куда».
– Так не ходи!
Подруга уже облизывала ложку, причем не как все, поворачивая ее выпуклостью вниз, а наоборот – бугорком кверху, языком снизу. Когда-то Альку злила подобная «неправильная» манера, потом привыкла.
– Я не могу. Я должна.
В «должна» пролилось все накопленное за последние месяцы отчаяние.
– Да никому ты ничего не должна, – вскинулась Ташка.
– Должна! Матери. Я ей все должна.
– Нет.
– Да.
– Нет.
– Да!
– Просто возьми и слейся.
– Что значит «слейся»? – удивилась Алька.
– Ну, возьми денег сколько сможешь, билет на автобус до дальнего города и начинай новую жизнь, свою жизнь – для себя, не для нее.
– Ага, чтобы она занесла меня в список «отвергнутых»?
– Ты что?! – Ташкины глаза стали круглыми. – Она такого не сделает!
– Сделает, – Алька в этом даже не сомневалась. Если дочь пойдет наперекор приказам, оскорбленная Ванесса Терентьевна пойдет на все, чтобы показать, насколько она обижена и оскорблена, в том числе и жестко отомстит – поместит собственного отпрыска в список тех, кто не «уважил» волю родителей, чем лишит последнего права на любую достойную должность и зарплату во веки веков, аминь.
– Ну, не изверг же она?
Это Алька комментировать не стала, лишь вздохнула, потерла чешущийся глаз и проморгалась. Опять подумала о том, что неухоженный сад – это чем-то красиво. Не все и всегда должно быть ухожено, рафинировано.
– Ну, тогда вариант номер два, – пустой стаканчик от йогурта стукнул донышком по поверхности стола и под порывом ветра едва не перевернулся. – Ты будешь?
Ташка указала на второй йогурт; каштановая голова качнулась.
– Тогда я съем. Так вот, вариант номер два – просто сделай так, как тебе удобно, и выдай все это за случайную ошибку.
– Не понимаю тебя.
– Ну, смотри. Тебе ведь не хочется идти к Храму?
– А тебе хочется?
– Я еще не решила.
На самом деле Ташке уже решила – ей хотелось мужа. И секса. И они обе об этом знали.
– Ладно-ладно, – замахала руками рыжая хитрюга, – мне не хочется к Дее. Но меня и не заставляют.
– Везет…
– Ты слушай! Делаешь проще: находишь мужчину, который тебе не противен, ложишься с ним в постель, как бы случайно беременеешь, затем приводишь его к матери и говоришь: «Прости, маман, так получилось – я хотела просто развлечься, но залетела».
– Она меня удавит!
– Не удавит! Все женщины развлекаются, так? Она сама, типа, не развлекалась до Похода?
– Не знаю.
– Так она тебе и сказала, если спросишь. Я почти уверена, что развлекалась. Так вот, ей придется принять тот факт, что сначала ты родишь сына, остепенишься, повременишь с получением крутой должности, заведешь мужа, а потом уже сама решишь, нужна тебе Дея или нет. Вот голову даю – твоя маман к тому времени остынет, размякнет из-за внука, поумерит амбиции…
Насчет последних двух пунктов Алеста сомневалась кардинально: чтобы мать размякла от мальчика? Рожденного не от Деи, а от какого-то мужика? Да ее инфаркт хватит. Сначала инфаркт, а потом накроет приступ бешенства. И амбиции к тому времени не уменьшатся, а точно увеличатся, ведь Алеста своим проступком станет должна втройне.
К тому же мысли о сексе с незнакомым мужчиной не рождали в голове Алесты ничего, кроме смутной тревоги.
– Как-то все это… противно.
– Мой план противный?
– Да план, может, и не плохой, а врать противно.
– А тут вранья будет мало. Ты и скажешь, что хотела все сделать, как «ты велела. Знаю, мама, ты была права – ты всегда во всем права, – но так получилось…»
– Лизнуть предлагаешь?
– А кто на это не велся?
– Все равно противно.
– Ну, если противно, тогда тебе остается только одно.
– Что?
Неужели существовал еще вариант номер три? Алька взглянула на подругу, но, к своему удивлению, наткнулась не на смешливые, а на совершенно серьезные серые глаза:
– Тогда учись драться. Драться так, чтобы, – она запнулась, – …если уж не отбиться, так хоть помереть достойно.
– Тьфу! Чего бы доброго!
И Аля, пытаясь проплеваться, принялась издавать губами неприличные звуки.
– Говорю же, родить легче! – захохотала Талия. – Ты только скажи, а там мы тебе приличного мужика найдем!
И она с удовольствием принялась доедать второй йогурт.







