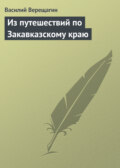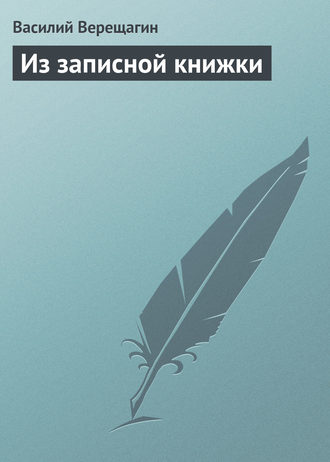
Василий Верещагин
Из записной книжки
Я инстинктивно оглянулся по сторонам – настолько привык я встречать одновременно этих двух интересовавших меня людей. И действительно, не прошло минуты, как я увидал и ту, которую искал глазами. На этот раз она шла очень быстро, будто спешила. Прямизна улицы позволяла различать на далекое расстояние, и я видел, как несколько опередивший ее флотский офицер остановился перед одной из террасок и, облокотившись на ее перила, вступил с кем-то в разговор. При этом незнакомка моя тотчас же замедлила свой шаг и, так как беседа все еще продолжалась, присела на лавочку под деревья. Несколько минут спустя моряк распрощался и, обернувшись в ее сторону, вероятно, увидел ту, которая, я не сомневался, пришла сюда для него; он скорым шагом пошел по ее направлению, она тоже немедленно поднялась, но вместо того, чтобы идти к нему навстречу, точно раздумала, скользнула под деревья и перешла на другую сторону улицы. Он некоторое время смотрел ей вслед, как бы в изумлении, затем пошел дальше, и я долго видел, как он шел все вперед и вперед по этому прямому, как стрела, и отененному липами тротуару.
После этого я махнул на них рукой и уже окончательно пришел к заключению, что действительно все это, вероятно, одна случайность, что люди эти – совершенно чужие друг другу и что только мое праздное воображение создало тут какой-то таинственный роман. К тому же срок моего пребывания здесь приходил к концу; мне оставалось всего несколько дней до отъезда, и, как это всегда бывает, я мысленно был уже весь там, куда меня призывали обстоятельства. Связь с окружающим порывалась, и оно утрачивало то значение, которое временно все-таки приобретает для каждого, даже случайного посетителя того или другого уголка божьего мира. Кроме того, в течение последующих дней я даже не встречал нигде эту загадочную пару и, признаюсь, был уверен, что они совсем покинули наш городок. Но та же услужливей судьба непременно пожелала столкнуть меня с ними еще раз. Было это опять на дебаркадере. Последнее время каждый день разъезжались по разным направлениям множество лечившихся у нас и на окружных курортах, и вот, чтобы заручиться порядочным местом, приходилось хлопотать, телеграфировать, наводить различные справки заблаговременно. Эти-то хлопоты и привели меня на местный вокзал; кстати, я прошелся и на платформу. Отходивший поезд был дальний, и пассажиров – множество. Носильщики, навьюченные всевозможным багажом, сновали как угорелые; едва поспевая за ними, бежали обладатели этого багажа; места брались положительно с бою. Прохаживаясь взад и вперед, я вдруг увидал свою незнакомку. Прислонившись к одной из обвитых диким виноградом колоннок, поддерживающих навес, она стояла с видом такой безнадежности, что я едва удержался, чтобы не подойти и не сказать ей хоть слово утешения; но, разумеется, я этого не сделал, а, отойдя несколько в сторону, чтобы не быть замеченным, ожидал, что будет. Вот раздался второй звонок, пассажиры, по-видимому, несколько поразместились, и из выходной двери вокзала показался тот, кого я не сомневался здесь увидеть. Он шел в сопровождении носильщика, несшего его небольшой, но изящный багаж, и когда он поравнялся с тем местом, где стояла она, моя печальная незнакомка, я видел, что она сделала рукой движение, как бы желая ее протянуть; и тут только впервые я заметил в этой руке прекрасную, перегнувшуюся от тяжести на своем стебельке, крупную чайную розу. Но на этот раз он не замедлил шага, он даже не оглянулся и, сопровождаемый носильщиком, прямо прошел в вагон первого класса. Рука бессильно опустилась и выронила розу, а обладательница ее затерялась в толпе. Я инстинктивно, почти опрометью, бросился к тому месту, которое она оставила: розу уже успели растоптать, а рядом с нею белела миниатюрная визитная карточка. Я поднял эту карточку и – о, да простят мне боги! – прочел единственное слово, наскоро набросанное на ней карандашом, – то было «Farewell» («Прости»)! На оборотной стороне, вероятно, значились имя и фамилия… но тут врожденная корректность одержала верх, и, чтобы не поддаться новому искушению, я, не перевертывая карточки, разорвал ее на мелкие клочки…
А через два дня я сам покидал N и покидал его, так и не разрешив своей дилеммы.
* * *
По поводу прибытия в Россию тибетской миссии многие газеты заходят так далеко, что говорят о возможности протектората России над Тибетом, о близком открытии этой страны для европейцев, их науки и цивилизации…
Напрасная надежда, – тибетцы не только не ступят шага вперед, но наверное сделают все возможное для воспрепятствования всякому, кто вздумал бы шагнуть им навстречу; только войска могут открыть европейцам заветную дверь, ведущую к Лассе[2] и далай-ламе.
Теперь, как и после, европейца, не бурята, не монгола и вообще не ламаиста, в Лассу не пустят и со всяким беззащитным путником, будь он хоть и русский, поступят вряд ли менее варварски, чем недавно с настойчиво пробиравшимся в средину Тибета англичанином, которого всячески мучили, жгли, резали, распинали и проч.
Говорят, Пржевальский сам не захотел идти к священному городу, но вернее будет сказать, что его не пустили, потому что если начали с того, что умоляли уйти, то если бы он не послушался, его все-таки выгнали бы или извели – угоном животных, отравой их пастбища или воды для питья и т. п., к чему приготовления уже делались.
Перед началом экспедиции Пржевальского[3] я предсказывал близкому приятелю покойного неутомимого исследователя Средней Азии барону Остен-Сакену[4] неудачу намеченного движения в Лассу. Барон сообщил мне, что Пржевальский везет в подарок далай-ламе великолепный серебряный чайный сервиз, но я настаивал на том, что сервиз этот далай-ламы не увидит или, наоборот, далай-лама не увидит сервиза, потому что Пржевальский ни за что не попадет в Лассу. «Разве вы не знаете Пржевальского? – говорил мне мой собеседник, – что он задумал, он сделает!» – «В чем хотите, только не в этом: в Лассу ему не попасть и далай-ламы не видать». Так и вышло: несолоно похлебавши, Пржевальский, – даже энергичный Пржевальский со своими наводившими всюду ужас стрелками, – должен был поворотить назад, не видевши золотого купола, венчающего монастырь далай-ламы.
Духовная власть этого полубога, басня об его бессмертии и прочие легенды тибетской теократии поддерживаются лишь благодаря организованному обману со стороны заправил и организованному же невежеству массы народа, и, конечно же, не в интересе лам дать проникнуть лучу света в непроглядную тьму, – повторяю, без материального принуждения, без войны они и не пропустят его.
Надобно знать, что далеко не один далай-лама почитается бессмертным: в Тибете, Ладаке[5] и других смежных странах есть много других бессмертных духовных лиц, преимущественно заправил больших, знаменитых монастырей, после смерти которых немедленно отыскиваются младенцы, их заместители. Все эти ламы пользуются большим почетом у властей и паствы. Например, при каждом выезде купген-ламы, близ монастыря которого в столице Сиккима, Томлонге[6], стояла моя палатка, народ бросался ниц и под страхом смерти и уж, наверное, варварского наказания не смел поднимать головы для лицезрения двигавшегося полубога.
Этот купген-лама был юноша лет 19-ти, добродушный и простоватый с вида, т. е. именно такой, какой нужен буддистским священникам для управления его именем. Он очень интересовался моим рисованием в монастыре, но в общем вел праздную жизнь, переходя из покоя в покой или сидя на высоком деревянном кресле вроде трона. Он редко подавал голос и прислугу звал ударом в ладоши. Прислуживавший ему Бутиа был, должно быть, большим плутом и оказывал всякие услуги, позволенные и недозволенные; по крайней мере, когда, я освоился в монастыре настолько, что сам купген-лама и его окружающие перестали меня дичиться, слуга завел речь о том, что, «по слухам, у меня есть лекарство от всяких болезней». – «От всех болезней нет, а от некоторых, простых, есть». – «Говорят, вы вылечили одного из ваших кули?» – «Я действительно помог одному из моих носильщиков, провинившемуся очень обыкновенною болезнью». – «Вот у моего господина (следовал титул ламы и пожелание ему многих лет) есть злая болезнь, давно уже не покидающая его…» Оказалось, что это была именно болезнь моего кули, и мне пришлось лечить моего бессмертного пациента самыми простыми средствами.
К Тибету я подъезжал с двух сторон: со стороны Сиккима, от столицы которого, Томлонги, до хребта, граничащего с Тибетом, было рукой подать, и со стороны Ладака, от соленых озер которого лежит прямо путь в сердце Тибета.

Ледник на дороге из Кашмира в Ладак
Через хребет, загораживавший дорогу со стороны Томлонги, король Сиккима, его приближенные и сам купген-лама ежегодно перебираются в Тибет, как на летнюю дачу, и мне, признаюсь, очень хотелось заглянуть туда: до Лассы там всего несколько небольших переходов. Английский «commissioner», однако, просил не делать опыта, который, пожалуй, ни к чему и не привел бы, так как кули, т. е. носильщики-туземцы, вероятно, или отказались бы идти, или разбежались бы.
Тибет – негостеприимная страна и в том еще смысле, что средний уровень высоты ее над уровнем моря можно считать в 14 000–15 000 футов; есть, конечно, места более низкие, но в общем, с вершинами этого высочайшего в свете горного узла, средняя цифра высоты всего плато весьма высока.
Местности Тибета неодинаковы: очень высокие хребты, с глубокими, крутыми, едва пропускающими горные потоки долинами – с юго-восточной части, т. е. со стороны Сиккима, и широкие равнины с пастбищами – со стороны Ладака, т. е. с юго-запада.
Жители грубы и грязны до такой степени, что только благодаря холодам не изъедены насекомыми и кожными болезнями в той мере, как заслуживают за свою неопрятность. Женщины, например, заплетают свои волосы в очень мелкие косы, а так как это работа долгая и трудная, то дамы не причесываются целыми месяцами. Это не мешает женскому полу украшать свои головы камешками, особенно бирюзою и янтарем; последний считается наиболее приносящим счастье и здоровье, так что ожерельем из него не брезгуют даже члены королевских семей.

Монастырь в скале
Тибетские дамы имеют всегда по нескольку мужей в силу закона полиандрии[7], дозволяющего, например, нескольким братьям иметь одну супругу, причем младший брат имеет меньше прав, чем старший. Младшие же братья по большей части искупают и повинность семьи по отдаче одного из своих членов в монастырь, в духовное звание (это – не закон, а обычай, строго соблюдаемый), и духовному обучению отдаются с ранних лет.
Духовенство безбрачно, но почти у всех старших лам есть между учениками монастыря племянники, в сущности, родные дети. Есть и женатые ламы, но они не в почете, а только терпимы. Женских монастырей много, и все они обыкновенно размещены недалеко от мужских. Когда в западном Тибете я спрашивал: а женский монастырь можно посетить? – то получал ответ: «Можно, он совсем близко отсюда». Насколько, однако, велики и хорошо обставлены монастыри мужчин, настолько же убоги обители женщин.
Все ламаистское обучение ведется в долбяшку, и тупость, суеверие, граничащие с детскою наивностью, полные. Современная наука совершенно пренебрежена, и вся буддийская мудрость обратилась в буквоедство, строго определенные формы которого совершенно застыли под пылью времени. Об одном монастыре, например, мне говорили как о хранителе книжных сокровищ, содержащих великую мудрость, но показали только голую комнату, в которой валялись на полу в величайшем беспорядке изъеденные мышами и крысами рукописи.
Делу спасения души в буддийских монастырях очень помогают молитвенные машинки, находящиеся обыкновенно в руках у лам и частных лиц, досуг имеющих: на стержне, держимом в руке, вертится барабан, туго набитый заклинаниями и молитвами, тем вернее действующими, чем усерднее повертывается машинка, причем приговаривается: «Ом мани падми хум!» (о ты, сидящий на лотосе!) Это так вошло в рутину времяпрепровождения, что постоянно слышны разговоры:
– Хорошая погода сегодня… Ом мани падми хум.
– Куда это вы идете?.. Ом мани падми хум.
Эти же святые слова встречаются изображенными как снаружи и внутри монастырей, так и на дорогах, особенно на камнях, наваленных на роде жертвенных памятников, украшающих горные перевалы, обходимых путниками непременно с правой стороны, чтобы не возбудить гнева божества гор и дорог.
Суеверен тибетский народ так, как только можно себе представить, и в этом отношении, конечно, нет ему равного: на все есть специальные заклинания, из которых, в сущности, состоят и молитвы; заклинаниями же лечат всякие болезни, с заклинаниями рождаются и умирают.
Монастыри тибетские ярко и красиво расписывают обыкновенно по старым китайским рисункам; раскрашивается все снаружи и внутри, и над крышами всегда развевается множество маленьких флагов, сообщающих зданиям, на наш взгляд, какой-то ярмарочный характер. Расписываются и огромные молитвенные машины, украшающие входные портики храмов, почти постоянно приводимые в движение или самими ламами, или добровольцами из богомольцев с неизбежным, нараспев произносимым приговором: «Ом мани падми хум!»
Эти машины устраиваются иногда в колоссальных размерах при быстринах горных потоков или рукавов от них, причем вода вертит уже целые миллионы строчек молитв и, конечно, быстро замаливаются всякие грехи, вольные и невольные.
При всем суеверии народа, фанатизма нет у буддистов ни в Гималаях, ни в самом Китае, и нужна была вся бесцеремонность европейских миссионеров, чтобы вывести из себя кротких, добродушных лам и народ: обещаниями помощи работою, деньгами и покровительством подонки туземного общества переманиваются в католичество и протестантство, после чего они, как имеющие за собою протекцию миссионеров, а с ними и посольства, наседают на тех, что остались верны религии отцов; это сердит, озлобляет китайский народ, знающий махинации, пускаемые в ход для привлечения к новой вере.