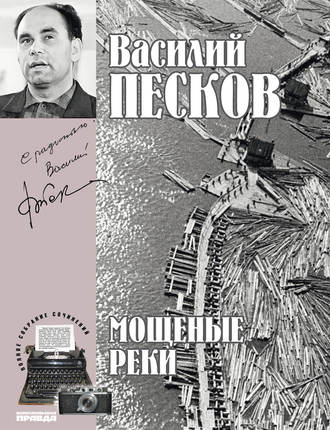
Василий Песков
Полное собрание сочинений. Том 5. Мощеные реки

© ИД «Комсомольская правда», 2014 год.
* * *

«…Дороги сдвигают жизнь. В науке дороги. Стройки. Просто дороги по местам необжитым. Человек на дороге чувствует себя вперед идущим, яснее видит пройденный путь, чувствует себя победителем. Дороги не дают жизни остановиться, не дают жизни закиснуть…»
В. Песков
Предисловие
Сейчас все в работе журналистов намного проще.
Вот в этом томе вы увидите заметки и фотографии рубрики «Широка страна моя…». Это снимки, сделанные Василием Михайловичем с высоты птичьего полета от Бреста до Камчатки. Не знаю точно, чья была идея пролететь через всю страну на вертолетах и самолетах и сделать этакий суперрепортаж с их борта. Думаю, самого Пескова. Он потом рассказывал, что хотелось страну показать так, чтобы разом чувствовались ее огромность и размах. Так что вертолет как раз был самое то. Пескову, с помощью газеты, выдали документ в Министерстве гражданского воздушного флота, где предписывалось «…предоставлять вертолет или легкомоторные самолеты». В июне 1966 года путешествие началось, в ноябре 1967 года – закончилось. Прямо к той самой дате, к которой его и придумали: 50-летию Октябрьской революции.
Но слетать, сфотографировать и написать было мало. Дело в том, что не то что в шестидесятые годы, а еще и в восьмидесятые прошлого века получить разрешение на публикацию фотографии даже самого безобидного объекта, сделанной с верхней точки, было целое дело. Снимки отправлялись в цензуру (Главлит), и там их тщательно просматривали – не видно ли чего секретного? А потом какие-то из них ретушировали, зачищая или закрашивая какие-то детали, показавшиеся цензорам не сильно уместными. И было все равно, руины ли это Брестской крепости, степные элеваторы на целине или Красная площадь. Красная площадь, впрочем, просматривалась особенно тщательно, там виден кусочек Кремля сверху, а это ведь цитадель партии и правительства.
Фотошопа не было, в ход шли белила или тушь.
Все эти снимки есть в томиках этого собрания сочинений Василия Михайловича.
После Пескова никто больше такого маршрута не повторял. Да и, пожалуй, не сумел бы, если не по размаху, то по мастерству. Они очень необычны и красивы.
Жаль только одного: черно-белые.
Но этому есть свое объяснение.
Сам Василий Михайлович как-то написал: «Черно-белая фотография (светопись) предъявляет фотографу более высокие требования, чем цветная. Цветной снимок часто дает лишь иллюзию удачи, к тому же цвет отчасти «скомпрометирован» морем цветных фотографий, часто не имеющих подлинной ценности, в бесчисленных глянцевых журналах».
В этом была своя прелесть, но свои проблемы. Когда мы собирали эту книгу, то увидели, что большинство его фотографий нецветные, хотя время от времени попадались их явные оригиналы в цвете! Все, что можно было дать цветным, мы дали цветным в этом собрании сочинений.
Только представить себе, по каким красивым местам путешествовал Песков! Какие краски он видел! Видимо, Василий Михайлович и сам это понял, потому что, например, его поездка на Аляску – рассказ о ней впереди – вся снята в цвете. Да и нашу природу он в последние годы стал фотографировать во всей ее красе и красках.
Но черно-белую съемку считал за высший класс.
В «Комсомолке», когда она была еще на улице «Правды», 24, как и в других редакциях, у фотографов были свои лаборатории, такие довольно тесные «чуланчики», специально устроенные так, чтобы в них не проникал свет. Там стояли бачки для проявки пленки, бутыли с проявителем и закрепителем, пачки с фотобумагой и, конечно, фотоувеличители. Работали при красном свете, так не засвечивалась фотобумага.
Я специально пишу это для тех, кто уже не застал всей этой премудрой техники. Сейчас просто: щелкнул и согнал файл с фотоаппарата на компьютер. Надо – распечатал на фотопринтере.
Песков колдовал над фотографиями сам. И даже когда в редакции эти фотокабинки снесли, его рабочее место не тронули. И он в благодарность прикрепил на дверь своей «кельи» листок: «Заповедник черно-белой фотографии. Директор В. Песков».
Андрей Дятлов,заместитель главного редактора «Комсомольской правды».
1965
Сентябрь
Времена года
Два раза в году синева щемит душу. В талую пору весны и теперь, в сентябре. Над полями, над полянами, над красным осинником, желтым березняком и просветленными речками – настой синевы. Случится день непогожий, а потом опять синева и холодные костры на земле. Непросыхающая за день роса под кострами, паутинная пряжа на кустах, на жнивье, решето паутины вокруг заходящего солнца. Пора бабьего лета, ничейная полоса встречи лета и осени. В мирной тишине разрешается спорное дело. Осень зажигает костры, а лето сдается и сходит доживать дни на берега речек. До больших морозов будет клубиться зелень лозинок, водяных трав и прибрежных цветов.
Ласковая пора бабьего лета чем-то напоминает весну. И не только человек поддается этому чувству. Случается, в эту пору расцветают деревья. Скворцы каждый год в эту пору покидают отлетные стаи и появляются у скворечен. Песня у скворца почти как весенняя, только тихая, будто спросонья. Поддаются обману тетерев и глухарь. А у самых больших обитателей леса в эту пору в самом деле расцветает весна любви. В сентябре начинается рев у лосей и оленей. На зорях и ночью услышишь приглушенный, похожий на стон лосиный вызов на бой. Другой голос… – вызов принят. Вытоптанная земля, поломанные кусты. Иногда побежденный остается на земле. Лесу милосердие чуждо. Только сильный имеет право продолжить род. Слабый уходит или остается лежать на потеху сорокам, лисам и кабанам.
Праздник осенних свадеб начинается в сентябре под Воронежем. С разных концов из темноты несутся трубные звуки. Пришлый человек вздрогнет и ускорит шаги. Охотник же с замиранием сердца слушает страстную музыку. Иногда слышишь: встретились. Стук рогов, топот. В лунную ночь можно даже увидеть, как, пригнув головы, наступают друг на друга противники. Разгоряченные драчуны не слышат твоих шагов, но самки стерегут место боя. Хрустнула ветка – ярость мгновенно сменяется чувством тревоги. Топот. И вот уже в другом месте – справа, слева, сзади: у-у-ооо!.. Когда-то все леса в сентябре наполнял этот рев, и месяц у славян назывался «рюень» – время оленьего рева.
При полном безмолвии лесных обитателей идут оленьи и лосиные свадьбы. Просвистит кочевая стайка синиц, застучит дятел, и опять синяя тишина. Невозмутимая зелень сосен и елок, холодный пожар кленов, осин и берез. Заметно остывает земля. Вода остывает медленней. Утром пар стоит над речкой, лодка идет наугад, как самолет в облаках. Поднимешь весла – слышен в тумане олений рев, а прямо над головою – прощальный крик журавлей.
День в сентябре равняется с ночью. Каким-то утром первый раз заметишь иней на крыше, на белой хрустящей траве оставишь след сапог. Все. С этого дня лето увидишь только во сне. Улетают скворцы, ласточки перед отлетом совещаются на проводах. Вороны и галки возвращаются на старые церкви, к чердакам высоких домов. Кружатся вечерами грачи. Сороки и синицы придвинулись ближе к жилью. Барсук и медведь запасаются жиром. Белка запасает грибы и орехи. Лягушки ныряют в пруд до весны, тритоны вылезают из пруда и зарываются до весны в листья под пнями. Морозы уже приходят один за другим. Все пожелтело. Только вишня в саду будет стоять зеленой почти до самого снега. Сад опустел. С шумом поднимается заночевавший под яблоней жирный пролетный вальдшнеп. Идешь, загребая листья, с надеждой отыскать забытое яблоко… и находишь. С два кулака антоновка. Нет ничего вкуснее случайного яблока из опустевшего сада – зубы уходят как в масло, ломит зубы морозный холод.
Чуть потянуло ветром, и полилась река листопада.
Встреча
Спросили однажды: какая из встреч с животными больше всего запомнилась? Я сразу назвал эту, помеченную в записной книжке восьмым днем сентября 1961 года.
День накануне был назван днем «таинственной птицы». Птица увязалась за нами от места ночлега. Качаемся в седле, а где-то справа тоненький голос: твинь-твинь… В изогнутый ветрами березняк повернули – тот же голос. Переглянулись: где она? Слева стена камней, правее стремя и правый бок лошади повисают над пустотой. Остановились у поворота тропы – птица умолкла. Поехали – опять: твинь-твинь. Соскочив с лошадей, все поняли: толстый ремень тихо ударял о медное стремя старого казачьего седла – получался таинственный птичий звук.

В тот же день вечером раскрылась еще одна тайна. Заморосило. А Валина лошадь вдруг начала храпеть, воротить голову. Над пропастью ехать было нельзя. Спешились, гладим лошадь по шее и размышляем: в чем дело?
– Знаю! – сказал Валя и стал отвязывать топор, притороченный у передней лямки седла. Спрятал топор в рюкзак, сел на лошадь, и спокойно поехали. Лошадь пугал не топор, а чехол из кожи старого кабана. Чуть дождик – топор начинал кабаном пахнуть. И лошадь пугалась.
Ночевать мы решили под старой пихтой. Горы затянуло сеткой дождя. Все намокло, а круговинка под пихтой сухая – место для палатки и для костра.
Как свечи, белели шишки на пихте. Отряхивались и гулко прыгали в темноте стреноженные лошади, а вверху, за пеленою дождя, туда-сюда по горам двигалось эхо оленьего рева. Под эту музыку пили чай, сушили фуфайки и говорили о зверях.
– Ну а медведь?
– Увидим. Здешний медведь трусливый. Человека почуял – покажет пятки в ту же минуту…
Всю ночь моросил дождь и ревели олени. А утром мы увидели: зима в горах идет сверху. Выпал снег на вершинах. На серых оконечностях скал при солнце сверкали куски холодного синеватого сахара. Под скалами лежала поздняя, бурая осень. А еще ниже – осень только что начиналась: полыхали горные клены, желтые пятки берез, диких яблонь и груш виднелись на крутизне.
Наша пихта стояла в полосе лета. Горели белые свечи чешуйчатых шишек. По мокрой траве ходили продрогшие лошади. Чувствовалось: не сегодня завтра и сюда сбегут по склону рыжие хороводы. И только под нами, в синей долине, лето еще постоит. Сквозь толщу воздуха долина похожа на прозрачное синее и глубокое море. Тени от гор уплывают в долину и растворяются в синеве. Солнце длинным широким лучом щупает синее дно и рассыпается серебром. Это сверкает внизу ручей, тот самый, что начинается возле нашей палатки. Тишина. Дикая пчела поднимается у лошади из-под ног и тяжелой пулей уносится к оцепеневшему мокрому клену. Непуганые дрозды у нас на глазах клюют рябину. Коршун висит над снежной вершиной. Было такое утро, когда кажется, что ты сегодня родился.
Утром все и случилось.
Мы собрались ехать на китайскую балку и уже держали уздечки – поймать лошадей.
– Гляди-ка… – сказал Валентин.
Я взял бинокль и минут пять не мог оторваться. На склоне горы, чуть выше берез, паслись медведица с медвежонком. Медвежонок был еле виден в траве. Медведица приподнимала и опускала морду в траву.
– Километра два…
– Лучший случай вряд ли представится…
– С малышом…
– Медвежонок уже большой. Медведица волноваться не будет. Главное – не спугнуть…
Я бросил уздечку на куст и зарядил в аппарат свежую пленку. Валентин остался седлать лошадей, а я полез на гору. Вчерашний дождь висел на траве гроздьями. Уже через пару минут казалось: не иду, а плыву, спасал над головою фоторужье. Кончился лес. Пошли по траве острова пожелтевших, гнутых берез. Плыву от острова к острову. Оглянулся – внизу белеет палатка. Валя седлает вторую лошадь. По росе темнеет след моего путешествия.
Неужели ушли? Приподнимаюсь на валуне – не видно. Ползу лощиной и вижу вдруг в тридцати метрах… двух медвежат. Повернули небольшой камень, лижут с него червей. К одному пристала пчела – колотит лапой около уха.
Меня медвежата не видят. Ничего не понимаю: откуда второй, где старуха медведица? Поднимаю фоторужье, навожу… Щелчок аппарата в тихое утро разбудил бы, наверное, и мертвого. Медвежата подпрыгнули и застыли на задних лапах. Но я уже на медвежат не глядел. Чуть в стороне под березой выскочила и стала на задние лапы медведица. Огромная! Морда у нее дружелюбная, как в зоопарке. Нижняя челюсть немного отвисла от любопытства и напряжения, передняя правая лапа согнута и прижата к груди. У меня одна только мысль: скорее снимать, сейчас испугается и убежит. Навожу, нажимая спуск…
Все дальнейшее длилось гораздо короче рассказа. Нарушая все предсказанья, медведица не испугалась. Медведица кинулась в мою сторону. Кто думает, медведи неповоротливы, – ошибается. Никогда не видел более резвого, устремленного к цели бега. Этой целью был я.
Это был я в мокрой, тяжелой фуфайке, кирзовых сапогах. Не побежать, не побежать! Я уже вижу огромную, заслонившую горы, пепельно-бурую голову, вижу два маленьких глаза, мокрый лоснящийся нос и репей возле уха. «Какая бесполезная штука фоторужье…» До меня уже семь… пять метров – как раз замахнуться и ударить объективом по голове. Я замахнулся и заорал. Хорошо знаю теперь, какой бывает голос в такую минуту – одно сплошное: а-а-аааа!..
И медведица испугалась. В трех шагах от меня медведица дернулась, как будто внутри у нее тормоз включился, потянула воздух ноздрями и вдруг кубарем покатилась по склону. И за нею два медвежонка. «Быстро бегают…» – это была первая мысль после крика.
Над цветами летали пчелы. Синела долина, а вверху сверкал сахарный снег. Я понял: в это утро второй раз родился. Захотелось опять – уже в радости – закричать. Голоса не было. Я сел на траву и губами стал собирать росу. Вынул из аппарата кассету с пленкой, подержал на ладони. Два снятых кадра. За любопытство, за два этих снимка плата могла быть очень большою.
– Вася! Ва-ася!.. – это был голос снизу.
Я быстро начал спускаться и у края берез увидел всадника. У лошади с губ падала пена. Лицо Валентина – белее снега.
– Не рассказывай, я все видел… Крик, а потом – ни тебя, ни медведицы. Решил: все…
У костра я вспомнил охоту в Африке на слонов. Охотились с фотографическим аппаратом. Но сзади был проводник с тяжелой винтовкой. Проводник – итальянец Джульяно – внушал: «Бежать – ни в коем случае. Всякий зверь устремляется за бегущим». Сегодня эта мудрость оказалась важнее винтовки.
К палатке подъехал егерь, подстерегавший в балке оленя. За чаем я стал рассказывать, как все было, и только теперь почувствовал меру пережитой опасности – кружка в руке стала вдруг мелко дрожать…
– И все-таки медведи наши миролюбивы. Вот случай… – Егерь вспомнил несколько любопытных историй медвежьего миролюбия, и я согласился: «моя» медведица не была исключением. Медведица была с ребятишками. Этим все объяснилось. Будь на ее месте сибирский медведь, не пришлось бы сидеть у костра…
Благополучно закончилось осеннее путешествие. Мы сделали снимки оленей, зубров. Слышали, как свищут серны, видели под пологом диких яблонь стадо испуганных кабанов. Пытались еще раз снимать и медведя. Долго к нему подползали. Но медведь нас почуял издалека и сразу же скрылся.
В местечке Псебай с другом мы распрощались. Он уехал в Майкоп, в управление заповедника. А я через день был уже в Москве.
Бережно, отдельно от других проявил пленку с «моей» медведицей. Разглядывая снимок, еще один раз пережил кавказскую встречу.
…В ноябре из Майкопа пришло письмо. Сразу же после приветствия Валентин сообщал: «Погиб егерь Бакуменко Яков Никитович. Помнишь, в тот день о медведях рассказывал? Нашли его на тропе лежащим книзу лицом. Встретил медведя. Видно, случилось все неожиданно – не успел снять винтовку…»
Такие бывают встречи.
Фото автора. 5 сентября 1965 г.
Октябрь
Времена года
Месяц желтых метелей. Сначала листок за листком тихо валятся книзу. Но вот покрепче мороз – и клен на опушке как будто за ночь остригли. Рыжая прическа ворохом лежит возле ног. И все кругом теряет лист за листом. В тихий день разлита между деревьями желтая музыка. Листья кружатся в медленном танце, повисают на паутинах, золотым шитьем ложатся на елки, на зеленые подушки кукушкина льна, на темные шары можжевельника и тихие окна лесной воды. Лесные дороги покрылись желтым ковром. Листья не поблекли и не подсохли еще – глушат шаги, мягкой подстилкой лежат в колее, в сырую погоду липнут на тележное колесо, вертятся мохнатым кругом. Листья еще не успели прикрыть грибы, еще можно найти грузди, опенки, россыпи медных пахучих рыжиков. Напоказ стоит ядовитая красота мухоморов.
Дожди. Туман. Белая соль мороза. С каждым днем все гуще огонь листопада. И приходит наконец день желтой метели. Закружилось, перепуталось все в лесу. Шорох, мелькание желтого, красного. Вихри, круговороты. Листья кружатся в просеках, с опушки уносятся в поле, сугробами сбираются по канавам… Стихло все. Лес тот и не тот. Стоит прозрачный и грустный, как после пожара. Далеко видно и далеко слышно. Листья жухнут и начинают шуршать. И все в лесу настороженно слушает этот шорох. Мышь пробежит – слышно за полверсты. Слышно, как сойка разгребает листья, ищет упавший орех. Шорохи нагоняют страху на зайца, и он бежит из леса в поле переждать смутную пору. У зайца в октябре много событий: растет потомство зайчат-листопадников, шкура белеть начала в предчувствии снега, вчера еле-еле удрал от гончей – как тут не испугаться лесного шороха.
Все чувствуют близкую зиму. Бобры топят в воде ветки осины – готовят подледный корм. Барсук и медведь сгребают листья для зимней постели. Белка странным чутьем находит в листьях орех и, если орех тяжел, не испорчен, несет в дупло. Поползень винтом ползает по стволу дерева, прячет в складки коры зерна и семена – зимою все пригодится…
Стоят серые дни. Долгие вечера, длинные ночи. Сыро и неуютно. И только временами, как праздники, перепадают прозрачные дни негорячего солнца. Свежим снегом скрипит капуста на огородах. Хозяйская рука в такие дни спешит посадить яблоню, спрятать в омшанике пчел.
Непрошеные дожди все чаще опускаются над землей. В такую погоду не многих потянет из дому. И только охотнику не сидится. Над землей в эту пору тянутся воздушные мосты птичьих переселений. На севере уже выпал снег. Зима выжила перелетных гостей. От тундры до теплой нильской воды, до речек Бирмы и рисовых вьетнамских полей тянутся сейчас птичьи мосты. Птицы летят ночью. А ночи пасмурные, и можно только удивляться, как птицы находят дорогу, как находят для отдыха озеро или болото, на которое опускались во время весеннего перелета.
Вслед за утками улетают жаворонки, дрозды, малиновки и грачи. Последними полетят лебеди. Иногда, чтобы покормиться и отдохнуть на воде, белые птицы сверху бросаются и грудью ломают лед. По давней традиции охотник не поднимет ружье на лебедя. Часто он вовсе с пустой сумкой является к дому. Перепачканный, мокрый, усталый. Какая неволя гнала человека? Спросите. И он расскажет, но не про утку, в которую стрелял и дал промах. Расскажет, как молчит в октябре пустынное поле, как стекленеет вода в малых лесных озерах, как пахнет костер под елкой, дрожит последний лист на березе и светится в прозрачном лесу красный огонь рябины.
У земной красоты не бывает выходных дней.
Листопад на Хопре: остров
Равнина. Поля пшеницы, кукурузы и сахарной свеклы. По равнине медленно течет речка Хопер. По берегам – лес. Птицы, летящие высоко, этот лес считают, наверное, островом и непременно на этом острове делают остановку. Птицам хорошо видно реку и четыреста мелких и крупных озер по лесной пойме. Весною озера сливаются в одну большую воду с Хопром. Теперь же, осенью, каждое озеро – само по себе. И все озера вместе спрятаны в зарослях камыша, осинника, вязов, дубов, бересклета, крапивы, терновника, хмеля, лозинок и сосен. И все это с конца сентября охвачено красным пожаром, все глядится в тихую воду.
Степной остров служит приютом летящему в дальние страны, и невозможно перечислить всех, кто живет у озер постоянно. Зубры, олени, еноты, бобры, барсуки, странный зверь выхухоль, множество всякой птицы, редкая для европейских лесов колония журавлей. И все это под боком у человека. Осенью услышишь сразу олений рев и гудение автомобилей; гомон вечерней улицы в Алферовке перебивается журавлиными криками.
Столица лесного острова – хутор Варварино белеет избами и светится окнами у края леса и края полей, тут же озеро, и река тут же, под боком. На реке переправа – большая лодка, землянка на берегу, костер возле землянки. Перевозчик по осени ловит щук, и его надо звать долго и терпеливо. Минуты ожидания не огорчают. Глядишь, как медленно плывут по воде желтые листья, собираешь ежевику в ладонь, слушаешь неторопливую речь парня-попутчика.
– Где же ты пропадаешь? – несердито говоришь перевозчику.
– А это видал? – вместо ответа говорит дед и нагибается в лодку. В темноте белеет брюхо огромной щуки…
По дороге к дому слышишь свист крыльев и тяжелые шлепки в воду. Перелетные птицы делают остановку на лесном острове.







