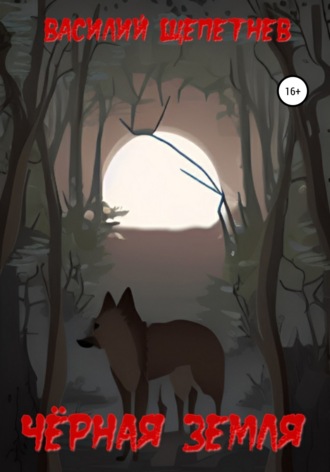
Василий Павлович Щепетнев
Чёрная Земля
– Свадьбу гуляли мы хорошо, – дождавшись, пока гости отопьют чаю, ответил хозяин. – А вот что дома нас встретило, то плохо. Неладно.
– Ну, тебя-то никто ни в чем не винит, Михайло, – успокоил хозяина Василь. – Ты здесь совсем в стороне.
– Получается, спасибо брату. Кабы не свадьба, мне бы сейчас перед тобой оправдываться.
– Да в чем оправдываться? Не повезло просто. Не на твоем, так на другом винограднике случиться могло. Вот, знакомься, сын моего боевого командира, Никифоров. Из города к нам приехал, клубное дело ставить. Надо бы нашим селянам, особенно, кто позажиточнее, деньжат для этого дела подкинуть.
– Деньжат подкинуть – дело нехитрое. Да только что за клуб в церкви? Мы ведь соглашались поставить красную избу, обществом. Почто церковь было портить?
– Ты, брат, того… Не нами решалось, сам знаешь. А для клуба мы ее и не портили, напротив. Забыл разве, какой она стала? А ребятишки наши прибрали ее, сколько выгребли всего, побелили…
Самовар сопел, не обращая внимание на чаевничающих.
– Подумаем. Осенью. Сейчас не до того, – ответил, отметая назойливых мух.
– Осенью, то само собой. Сейчас бы для начала хоть трошки – литературу, книг приобрести, всякую мелочь.
Хозяин сделал вид, что не слышит.
– Чай вот добрый, Никитинский. Из города куплен. Пейте, пейте, и сахару не забывайте, – сахар был – вприкуску. Сколы, белые, хрупкие, лежали в сахарнице. Голубая, тонкого фарфора, сахарница меж грубой фаянсовой посуды казалась институткой на трудовой повинности.
– Благодарствуем. Пора нам, – и Василь откланялся. То есть, он не кланялся, просто встал, повел неопределенно рукой – и все.
– Спасибо, – Никифоров поставил недопитое блюдце на стол. Уходить не хотелось, но он здесь – не главный.
– Я не копейки просить зашел, – объяснял Василь, когда они отошли подальше. – Прощупывал. Как он чувствует себя.
– Зачем?
– Убили-то на его земле. Любой бы волновался. А он – спокойствие выпячивает, не причем-де я.
– Ведь Костюхин на свадьбе был.
– Так-то оно так, а все же… Ничего, пусть знает, что мы не простачки, поволнуется. Чай Никитинский пьет, подумать…
– А богатое у вас село, – переменил тему Никифоров. – Дома какие…
– Немалые, – охотно согласился Василь. – Что дома, дома – это снаружи. Подвалы под ними – поболее будут.
– Подвалы?
– Конечно. Вино где хранить? От века село виноделием промышляет. Бочки – на заказ, стоведерные встречаются. Думаешь, по земле идешь, а под тобой винища – море разливанное. Правда, ненадежный нынче промысел.
– Отчего же?
– Вино, особенно дорогое, оно для дворцов, а у нас дворцам война. Нэпманов поприжмут, кто ж станет по червонцу за бутылку платить? Рабочему человеку водочка милее, она без обману хлопнешь стопку, и тепло, и весело. Ты как, употребляешь?
– Иногда, – вчерашняя отвальная выглядела сейчас иначе, но повторять все еще не хотелось.
– Отец твой меру знал. А вот здесь товарищ Купа живет. И я с ним, по-родственному.
Дом был не менее других, но – несвежий, неряшливый, дом – на время. Дырявая плетеная корзина, валявшаяся на земле, вольный бурьян у загороди, беспрестанно трепыхавшиеся на веревке тряпки, повешенные, верно, для просушки и забытые до нужды в них.
Василь приоткрыл калитку, скрипнувшую на сухих петлях.
– Тебя не зову. Товарищу Купе, сам понимаешь, не до гостей.
– Понимаю, понимаю, – забормотал Никифоров.
– Теперь, ежели что, знаешь, где меня найти. Погуляй, а мне пора.
Никифорову гулять не хотелось. Да и вечереет. Он повернул назад, к знакомым местам. Потихоньку, не разом все село в друзьях станет. А молодежи много. Он видел, как бойко бегала детвора, а те, кто постарше, переговаривались, поглядывая в его, Никифорова, сторону.
К церкви он поднялся, когда солнце стало большим и красным. Красивое время.
Внутри было, как в паровозной топке, огненно. Просто пожар. Но на пожаре жарко, а здесь огонь холодный, бабий. Он передернул плечами, больше от нервов, не замерз же он, в самом деле, не так уж тут и зябко. Прохладно, вот верное слово: прохладно. Градусов восемнадцать, девятнадцать. Ну, а снаружи все тридцать, оттого и кажется – мороз. Никифоров окинул взглядом стены, вверх, до купола. Пришлось потрудиться не на шутку – забелить все. Леса, должно быть, ставили, иначе не достать ведь. Впрочем, работа спешная, неважнец.
Он заторопился в свою келью студента, так назвал он каморку, в которой предстояло провести лето. Сейчас Никифоров жалел, что не знает архитектуры. Нефы, порталы, алтарь, хоры, притвор – вертелись в голове названия, вычитанные из книг, рыцарских романов. В них, правда, про другие церкви писали, католические. А кельи – это в монастырях, кажется. Пусть.
Каморка показалась тюрьмой. И так все лето – в одиночке просидеть? Шлиссельбургский узник, а не практикант. Отчаянно захотелось домой. Нечего, нечего нюнить, погоди, день-другой минует, обзаведешься дружками – представил он реакцию отца.
От стука в окошко он вздрогнул, но и обрадовался тоже. Не иначе, проведать пришли. Никифоров откинул крючок, распахнул окошко во всю ширь. Нет, это всего-навсего малец, что обед приносил.
– Ужин, – коротко буркнул малец, протягивая в окно торбу.
– Ты заходи, чего так-то, нехорошо.
– Не, – малец мотнул головой. Как уши не оторвались.
Никифоров опорожнил торбу. Брынза, хлеб, зелень. Сложил вовнутрь посуду с обеда, отдал мальчонке. Тот подхватил торбу и – поминай.
Ладно, а сам-то? На стены глядел, купол, побелку оценивал, нефы вспоминал – затем лишь, чтобы на мертвую не смотреть. С собой лукавить ни к чему. Суеверие, пережитки.
Окно Никифоров закрывать не стал – тепло снаружи, теплее, чем здесь. Есть не хотелось, сыт. Нечего тянуть. Он вернулся в зал.
Закат отбушевал, лишь поверху розовело, и то – самую малость. У гроба возился один из недавно приходивших, Никифоров его не запомнил, да не беда, перезнакомится.
– На кузне сделали, – встретил Никифорова парень.
На подставке у гроба стоял каркас звезды, пятиконечной, из тонких, с карандаш, металлических прутьев. Парень прилаживал к звезде материю, красный тонкий ситец.
– А внутри свечу зажжем, получится огненная, – пояснил он. Потом, приладив, наконец, лоскут, сказал:
– Меня Еремой кличут, ты, небось, позабыл?
– Позабыл, – признался Никифоров.
– Понятно. Я бы тоже. Сколько вон нас-то. Ты садись, – Ерема подвинулся, освобождая место на скамье. – Сейчас свечи запалю, сразу светлее станет.
Действительно, темнота сгущалась быстро, что в дальнем конце зала – и не разглядеть. А ничего там нет, совсем ничего.
Языки на кончиках фитилей замигали, заплясали, разгораясь.
– Красиво будет, – Ерема поставил одну из горящих свечей внутрь звезды.
– Не загорится? – сказал Никифоров, чтобы хоть что-нибудь сказать.
– Не должно, не впервой.
Теперь свечи горели спокойно, ровно. Странно, стало как-то темнее, за исключением небольшого круга – скамья, подставка, гроб.
– Она акробатические этюды любила, – длинное слово «акробатические» деревенский паренек произнес неверно, но Никифоров его понял. Физическая культура приветствовалась, была обязательной, а этюды эти составляли едва не основу всех праздничных шествий. Каждая школа, училище неделями готовились, стараясь построить фигуру посложнее, на шесть человек, на десять, на двадцать. К осени физрук обещал разработать новый этюд, «Индустриализация», на двадцать шесть физкультурников.
– Согреться нужно, – Ерема достал откуда-то небольшую бутылочку, мерзавчик. – Выморозки.
Он сделал глоток, другой, потом протянул мерзавчик Никифорову. Пришлось отпить. Оказалось, совсем не тяжело. Действительно, сразу стало теплее, уютнее. Никифоров прошелся вокруг гроба, разглядывая мертвую девушку безо всякой неловкости, затем, вернувшись на место, поинтересовался:
– Ты тут до утра будешь?
– До утра, потом меня Клавка сменит.
– Клавка?
– Клава, из сельсовета что. На тебя поглядывает. Увидишь! А мне в Шуриновку тащиться, сразу, пособить нужно дядьке. Он крышу латать надумал.
– Я пойду, что ли.
– Погоди, давай еще … согреемся.
Второй раз пошло еще легче.
– Ты допивай, если хочешь, – предложил Ерема, – мне довольно. Все бы отдал, лишь бы не писать, – паренек открыл тетрадь. – Какой из меня писарчук? Пять страниц!
– Да, – протянул Никифоров. Потянуло в сон. Полночь, поди, скоро.
Он вышел наружу, освежиться. Полночь, не полночь, а огоньков в селе мало. С курами ложатся. Где-то вдали отчаянно, разудало играла гармонь, но после, после… Поспать нужно.
Возвращаясь, он в потемках едва нашел путь внутри церкви. Свечу одолжить разве?
Ерема перевернул страницу.
– Четыре осталось. А свечу бери, их у нас хватит.
Сейчас, в неровном свете колеблющегося пламени, стены выглядели и вовсе странно – сквозь свежий мел проступали какие-то пятна. Лики святых? Он поднес свечу поближе к стене. Пятно вроде бы исчезло. А отойти шага на три – вот глаза, рот, нос. Хари клыкастые, а не святые.
Пошатываясь, крепки, однако, выморозки, он нашел родную келью и поспешил улечься. Но, прежде чем заснуть, накинул на двери крюк. Все же чужое место.
Уснул, как упал – разом. Виделось странное – качались стены, волокли что-то под полом, ломились в дверь, причитали и скулили за стенами, неспокой, а не сон. Сил просыпаться не было. Под утро стало легче, беспамятнее, и, проснувшись, Никифоров не сразу понял, что он и где. Голые стены, петухи истошно орут, во рту скверно – зачем?
Он сел, соображая. Ага, практика, келья студента. Который, интересно, час?
Опять переходы, сумрак. А в зале светло. Ерема, видно, ушел уже, нигде не видно. Никифоров прошел мимо, не до того. Роса обильная, ноги от нее зудились, брезентовые тапочки стали темными.
Покончив с делами неотложными, он стал искать рукомойник. Не то, чтобы Никифоров был чистюлей, но хоть раз в день руки сполоснуть нужно?
Пришлось идти к колодцу. Вода глубоко, вертеть пришлось долго, пока вытянул ведро. Даже кружки нет, неловко, но он справился и, освеженный, захотел пробежаться, покрутиться на турнике, просто расправить плечи. А плечи – ничего, мускулатуру он наращивал регулярно, отец за этим следил, утверждая: «кем бы ты не был, бойцом быть обязан». Надо бы в саду место выбрать, где отжиматься. Пятьдесят раз утром, пятьдесят раз вечером. С вечера и начнет.
Солнце едва поднялось. Отсюда, сверху, видно было, как выбегали на двор люди, все по нужде, и колодезные вороты перескрипывались каждый на свой лад. А он рано встал, едва не раньше всех. Знай наших! Стало еще веселей, и поганый вкус во рту прошел совершенно от листа щавеля, что нашелся неподалеку. Огородик поповский. Захирел, зарос чертополохом, а все-таки польза.
От щавеля захотелось и поесть. Со вчерашнего много, много чего осталось.
В зале он первым делом поглядел Ерему. Нет парня, не видно. Ушел в эту, как ее? Шуриновку? И ладно.
Остатков хватило на сытный, тяжелый завтрак. Жаль только, сухомятка. Что ж дальше делать?
В дверь постучали.
– Еремки нет у вас, студент? – девица из сельсовета заглянула, любопытствуя.
– Да он собирался уйти, вроде, – Никифоров оправил на себе одежку, смахнул за окно крошки.
– Должен был меня сначала дождаться, – Клава и сердилась, и улыбалась. Чему? Ничего смешного. Сажа у него на носу, что ли? По простоте улыбается, по глупости, из бабьего интересу.
– А вы тут один ночью спали?
– С кем же мне спать еще? – сказал и покраснел, вышло двусмысленно. Клавка так и прыснула.
– И не боялись?
– Чего?
– Некоторые боятся. Ночью прийти сюда – самый страшный спор раньше был. Кто из парней решался, полгода потом хвастал.
– Суеверия, – хотелось говорить и говорить, но вот о чем?
– Вы городской, с понятием, а у нас темных много. Комсомольцы боролись с предрассудками, Аля… – она запнулась. – Мне к ней надо, а то придет дядя Василь.
– Он вам… он тебе дядя?
– Троюродный. В селе каждый, почитай, кому-нибудь да родня. Так я пойду, – сказала она полувопросительно но и как-то… нехотя? дразняще?
Никифоров подумал немножко и пошел вслед за ней.
– Куда он ее задевал? – Клава искала что-то, больше глазами.
– Что задевал?
– Да тетрадь, записывать в которую.
– Дайте, я посмотрю, – Никифоров подошел к гробу, дыша осторожно, еле-еле.
Тетрадь лежала рядом, около матерчатой звезды, сейчас выглядевшей довольно невзрачно.
– Вот она.
– Ой, спасибочки, – она непритворно обрадовалась. Или притворно? – Вы дышите, дышите, здесь покойники не пахнут долго.
– Да я… я ничего… От холода?
– Воздух такой. Знаете, тут раньше даже мощи были, внизу, потом их, конечно, выбросили, а в раку героя гражданской войны положили, и он неделю пролежал, тоже летом, и совсем cовсем никакого запаха не было. От сухости, и селитра в воздухе растворена, нам объясняли. Только потом оказалось, что он совсем не герой, а как раз наоборот, беляк.
– Правда?
– Да, а раку в подальше в подвалы запрятали. Или еще куда, не знаю.
– Подвалы?
– Да, под нами. Только глубоко. Видите, какая она?
Пришлось посмотреть. Действительно, будто спит. Даже кажется, что вчера бледнее была.
– Ну, молодежь, настроение боевое? – Никифоров вздрогнул, Василь подошел тихо, совсем неслышно.
– Ты, Клавочка, оставайся здесь, а нам с товарищем Никифоровым потолковать нужно. Дело есть, – они прошли под яблоньку.
– Какое дело? – Никифоров спросил бодро, как и должно молодому комсомольцу.
– Да так я, нарочно сказал. А то уболтает она тебя. Хорошая девка Клава, но… Ты-то как?
– Я… я хорошо, а что?
– Спалось на новом месте нормально, клопы не мучили, блохи?
– Нет, ничего.
– Ну и хорошо. А Еремка где?
– Ушел, наверное, он мне говорил…
– Насчет дядьки, знаю. Пойдем, позавтракаем.
Завтракали они в доме товарища Купы.
– Сам он спозаранку в сельсовете. Не такой товарищ Купа человек – о долге, о работе забыть, – завтрак был скудный, кружка кислого молока да черствый хлеб, но Василь и это ел в удовольствие. Пришлось из вежливости подобрать до крошки.
– А дело вообще-то есть. И людей поближе узнаешь, – Василь достал планшетку, повесил на плечо. – По коням, молодцы.
Делом оказалась подписка людей на Индустриальный заем. Приходили на виноградники, и Василь начинал обстоятельную беседу. До середины мало кто выдерживал, хмуро, невесело, но – подписывались. Заминка вышла на четвертом селянине.
– Ну как, будем подписываться на сто, или пожлобимся, остановимся на восьмидесяти?
Мужик, большой, степенный, продолжал работать работу.
– Чего призадумался, Николаич?
– Ты, Василь, у нас вроде как барин. Барин Дай-дай. Ходишь и оброки выколачиваешь. Только оброки эти нигде не записаны. Что положено по закону, то отдаю, а лишнего – шалишь.
– Сам шалишь, братец. Генеральной линии не понимаешь, или так… придуриваешься?
– На то времени нет. А линия такая – обогащайтесь, не слыхал? Кто работать не ленив, жить по-людски должен. У меня твоих бумажек заемных – по горло. Хватит, пора и честь понять.
– Эх, Николаич, Николаич, не я ж те займы придумываю. Их сверху спускают, – Никифоров видел, что Василь зол, но крепится.
– В кулак пусть спускают, коли приспичило, а мне тот заем без надобности.
– Как хочешь. Неволить не могу. Страна и без твоих денег проживет, а вот ты… Пожалеешь, грызть землю будешь, да поздно.
– Ты не пугай, не пугай. Возьму, не возьму – едино, как повернется, так и выйдет. Сможете, так все заберете, но сам я вам не поддамся.
– Заберем, придет время.
– Вижу, не терпится. А знай, это пока я здесь, то земля – добро. У тебя ж да других нищебродов добро прахом пойдет, с голоду пухнуть станете.
– Поговори, поговори… Договоришься…
Они пошли прочь. Внезапно Василь подмигнул:
– Видишь, заядлый какой. Сам себе вред делает. Я тебя сюда специально привел, чтобы видел – ненавидят нас и власть нашу. Одни поумнее, молча, а Николаич вслух. Ничего, терпят их до срока…
– Долго будут терпеть?
– Тебе в городе виднее должно быть. Думаю, кончается их время, кончается, оттого и лютуют. Помимо Али-то у нас еще четверо за год пропали.
– Как – пропали?
– А сгинули. Кто говорит, в город ушли, за лучшей долей, да пустое. Не те ребята, чтобы тайком, воровски, сбегать. Аля наша верховодила, ее тоже… Знать бы кто.
– Найдут, может быть.
– А не найдут – все ответят. Я ведь не просто хожу, на заем подписываю, я им в самое нутро смотрю. Не отвертятся. И ты смотри, вдруг чего да приметишь, глаз свежий.
– Буду, – хотя что он может приметить? Сыщицкие книжки Никифоров любил, у него была стопочка, старых, еще дореволюционных, с ятями – Ник Картер, Шерлок Холмс, Фантомас, затертых, пахнувших особо, отлично от, скажем, учебников. Но книжки книжками, а на самом деле никто ведь не скажет при нем, мол, я убил…
– Я имею ввиду, кто агитацию против колхозов вести начнет, против власти советской. Из них вражина, запугать хочет.
– Буду, – только и повторил Никифоров.
– То я так, на всякий случай, – они сидели на скамейке у сельсовета, люди, что проходили мимо, здоровкались, узнаваемо смотрели на Никифорова и шли дальше. Мало людей. День рабочий, но кому-то справка нужна, другому выписка, третьему еще что-нибудь. Клавы сейчас нет, товарищ Купа отпустил ее, одному легче, – все это Василь рассказывал, как своему.
– Я постараюсь.
– А пока – осматривайся. С ребятами нашими сойдись ближе. Ты городской, одни робеют, а другие, наоборот, задирать попробуют, но ты не бойся, комса любому юшку пустит.
С таким напутствием Никифоров и остался.
Одиночества он не любил раньше больше теоретически, как признак буржуазного индивидуализма. Откуда одиночеству в городе взяться? А тут – почувствовал. И ему не понравилось. Права теория.
Так и слоняться? Или возвращаться в церковь и до обеда… А что, собственно, делать до обеда?
– Меня дядя Василь до тебя послал, – как-то одновременно и независимо и застенчиво сказал паренек. Одет совсем по-простому, с котомкой на плече, просто ходок-богомолец со старой картинки. Возник он – ниоткуда, только что Никифоров был один, и вот – здрасте!
Последнее слово он, кажется, сказал вслух, потому что паренек ответил:
– Здравствуй, здравствуй. Фимка я, Ефим, то есть.
Да, один из вчерашних припомнил Никифоров.
– Дядя Василь?
– Он самый. Покажи, говорит, студенту село наше, округу, познакомь с ребятами. Только сейчас работают все. Попозже, к вечеру, разве…
– Чего ж, Фима, не работаешь?
– Так – общественное поручение!
– Какое?
– Да ты.
– Ага, – Никифоров почувствовал себя странно. С одной стороны, вроде и лестно, почет, а с другой… – Тогда что будем делать?
– Дядя Василь думает, может, на речку сначала, – интонация была не вопросительная. Сказано, и все, ясно.
– На речку – можно, – Никифоров уцепился за это «сначала». А дальше он и сам решит, что делать.
Речка оказалась верстах в двух от края села, а сколько до края пришлось топать… По пути опять пристал кабыздох, Никифоров обрадовался, и собачка – тоже. Фимка, впрочем, оказался болтливым пареньком, и Никифоров даже не заметил, как они дошли.
– Вот она, речка наша. Шаршок называется.
Речка Никифорову понравилась. Неширокая, спокойная, по берегам сплошь деревья. Ивы, что ли, в ботанике он был слабоват, знал клен, дуб и березу наверное, а в остальных путался.
– Рыбы, поди, много?
– Водится, – Фимка провел его к месту, откуда удобно было входить в реку. – У нас многие любят рыбачить, да времени нет.
Вода, чистая и ласковая, не хотела отпускать. Купались они до синевы, до зубной дроби, и теперь Никифорову идея Василя представлялась самой удачной. Особенно, когда из котомки Фимка достал обед, что мир предназначил одному Никифорову, но управились едва вдвоем.
– Хорошо тут у вас, – лежа на траве, он жевал запеканку со свежим, жирным творогом. Изюму тоже не пожалели. Еще бы, виноградный край.
– Скучно, – Фимка ел медленно, как бы нехотя, разве что компанию поддержать, но подбирал каждую крошку. Деликатничает. – По двенадцать, по четырнадцать часов работа, работа… Вот в городе – смену кончил, и делай, что хочешь, правда ведь?
– Правда, – согласился Никифоров. Делай, что хочешь… Вот и делают. В скученности, грязи, помоях. Бескультурья много пока еще. Но говорить этого не стал.
– Я, к примеру… Я художником хочу, – Фимка покраснел, залез в котомку. – Вот, рисунки, случайно захватил, – от протянул Никифорову альбомчик.
Понятно. Спрашивает мнение человека со стороны, можно сказать, специалиста по культуре. Польщенный Никифоров взял альбом.
Рисунки были не хороши, ни дурны. Аккуратно выведенные березки, коровы, излучина реки, церковь. Отдельно – собака, корова, люди, все больше издали да со спины.
– В училище думаешь поступать?
– А возьмут?
– Происхождение у тебя какое?
– Из бедняков. Батрачим, своего хозяйства у нас, можно сказать, и нет.
Никифоров продолжал листать альбом.
– А это что за морды? Черти?
– Это? Я просто…
– Антипоповская пропаганда, да? Представление?
– Вроде.
– Здорово. Костюмы пошить такие кто бы взялся. Оторопь берет, как ты только и придумал… – он просмотрел альбом до конца. Все, больше, к счастью, ничего нет. – Попробовать стоит – в училище.
– Я узнавал, – Фимка покраснел, – в сентябре ехать нужно. И работы представить. Я новые нарисовать хочу, по теме. Освобожденный труд, успехи.
– Времени, значит, хватит, – речка вдруг потеряла привлекательность. Назад, в воду больше не хотелось, да и валяться на траве тоже. Солнцем голову напекло? Они оделись, благо обсохли, и пошли, а куда? Даже спрашивать не хотелось.
– Мне говорили – из бедняков кто, тому дорога везде сейчас. Один, из Шуриновки, даже в самой Москве на доктора учится.
Кабыздох загавкал предупреждающе.
– Бабка Лукьяниха, – показал Фимка на семенившую неподалеку старуху. Бодро, споро идет.
– Ну, бабка.
– Отряду водку тащит, наверное. Пойдем, глянем?
– Какому отряду?
– А красноармейскому. Пойдем, у них такая машина землеройная, просто зверь.
Никифоров покорился. Бабка, машина, отряд какой-то… Чувствовал он себя совсем лишним, никчемным. Нанесло сюда без нужды, нужен он, как мерин кобыле… Он тряхнул головой. Упаднический пессимизм. Не стоило в жару пить эти… а, выморозки. По стопочке всего и выпили, ну, по два. Фимке хоть бы хны, они, деревенские, привычны, небось, от соски.
Шли они вдоль берега, бабка не оглядывалась, да и с чего? дело житейское. Версты через полторы заслышался шум, рокочущий, моторный. Бабка приняла в сторону, вышла на открытое место.
– Вон, видишь? – показал Фимка.
Шумела машина, но что за машина! больше трамвая, на гусеницах, она ползла вперед, врываясь в землю колесом с ковшами, а колесо-то вышиной с дом будет, а за собой оставляя траншею.
– Роторный экскаватор, – гордо сказал Фимка.
– Откуда знаешь?
– Да у нас многие – с красноармейцами… насчет водки.
– Окопы роют?
– Не, связь. Вон, дальше…
Действительно, дальше шла повозка, тащили ее пара лошадей. На повозке стоял барабан, с которого медленно сматывался кабель, сматывался и уходил на дно траншеи. А совсем позади еще одна машина сгребала землю назад, засыпая траншею, прикатывала ее. Красноармейцы, до полуроты, сновали рядом, поправляя, прикапывая лопатами огрехи.
– Треть версты за день укладывают. Скоро уйдут, тогда Шаршки будут меняться.
– Меняться?
– Ну да. Мы им водку, а они железо там, гвозди. Гляди.
Действительно, мена шла почти открыто: бабка передала две четверти, а красноармеец, пожилой, видно, из хозяйственников, какой-то сверток. Бабка, не разворачивая, пошла назад.
– Надо будет дяде Василю доказать.
– Доказать?
– Ну да, бабка Лукьяниха из подкулачников. А ведь получается – имущество казенное расхищает, армейское. Он ее приструнит, на заем или еще как…
Лукьяниха ушла, а они все смотрели, как медленно, но упорно двигался вперед поезд связистов. Наверное, телефонная линия, на случай войны. Совсем уже сзади несколько бойцов укладывали дерн, получалось аккуратно, образцово. Не знать, что рыли – и не заметишь.
– Она осядет, земля, – сказал Фимка. – Немного, да осядет. Но все равно здорово.
Никифоров согласился. Армия предстала перед ним мощным, слаженным, выверенным механизмом. Отец не противился тому, что он пошел по гражданской части, ничего, в жизни не лишнее, зато потом легче будет поступить в училище красных комиссаров, или в органы. Образование не помеха.
Они сидели долго, завороженные странной, почти колдовской работой механизмов и людей. Наверное, слишком долго. Наконец, Никифоров решил, что довольно, хватит, и оказалось – вечереет. Пока шли назад, день и прошел. Быстро прошел, а что оставил?
Фимка задержался в селе – «заскочу к своим, а после приду», в ночь был его черед нести вахту. А пока в церкви встретил он другую девушку, не Клаву., та с обеда ушла. Они кивнули друг другу, но говорить не стали.
Ужинал Никифоров, как и давеча – малец передал котомку через окно. Как с прокаженным или каторжником, пришло на ум. И смотрел паренек как-то… и жадно, и любопытно, и жалостливо.
– Ты что, боишься зайти? Или не велят? – спросил он.
– Ага, – малец кивнул.
– Да не съем же я тебя, – но паренек не поверил. Или сделал вид, что не верит. Да просто ему этот городской – докука, своих дел невпроворот. Или напротив, как в зверинец сходить. Американский койот, гроза прерий, а в клетке – что-то вроде дворового Шарика. Или действительно – койот? На всякий случай руку совать не стоит. Осмотримся поперва.
Никифоров расстарался устроиться удобнее. Клонило в сон, а что он за день сделал? Думай, голова, картуз куплю. О чем думать-то? О виденном. Например, военные. А если они причастны к смерти дочки товарища Купы? Вот так, взяли и застрелили? Ну нет, что другое… А надо бы узнать, может, сначала что другое и было…
Сон наплывал, укутывал. По полю ползла уже не машина, а тысяченожка, гигантская сколопендра, и он знал наверное, что она откладывает в землю яйца, яйца, из которых потом такое понавылупляется… Вдруг она изменила путь и двинулась к нему, беспечно лежавшему на берегу речушки. Солдаты-погонщики засуетились, криками пытаясь то ли чудище остановить, то ли его, Никифорова, прогнать. Ноги, как это и бывает обыкновенно во снах, стали неслушными, и он, упираясь на руки, попытался перетащить тело в сторону, подальше от надвигающейся громады, пыхтящей, поблескивающей жвалами. Сейчас вот схватит, обовьет шелковой нитью вместе с яичком и закопает. Свалившись в речку, он поплыл, вода держала и ноги, наконец, подчинились, плывем, плывем, но тут что-то подхватило его с обеих сторон, не больно, но цепко, подхватило и вознесло вверх. Никифоров почувствовал, что его оплетает клейкая лента, забился, зная наперед, что не вырвется, а лента круг за кругом пеленала тело…
Он встрепенулся, освобождаясь ото сна.
– Студент, а, студент, ты не спишь?
Никифоров завертел головой, определяясь, кто и откуда. Звали из окна, полураскрытого, едва видимого в темноте.
– Ну, где же ты?
Он подошел, немного шатаясь со сна, распахнул окошко пошире.
– Руку дай!
Он послушно протянул руку. Клава ловко, не ждал такой прыти, вскочила на подоконник.
– Что-то случилось?
– Я просто в гости зашла, пустишь? – спросила она. Явное излишество: Клава обосновалась в келье не дожидаясь ответа – толкнула табурет, села на постель.
– В гости, – тупо повторил он.
– Или не рад?
– Рад, почему, я рад, – забормотал Никифоров, – еще бы…
– Тогда почему стоишь? Или у вас все такие робкие в городе?
– Сейчас, – он сел на краешек лежака. Придвинуться? Опять решили за него – Клава прижалась к нему, задышала горячо, Никифоров и загорелся.
Опыт у него был, маленький, да свой.
Далеко заполночь они задремали – и не сон, и не явь. Клава не шевелилась, тело ее – опаляло. Ничего.
В дверь застучали, забарабанили, и крик, истошный, рваный:
– Помогите! Скорее, помогите!
Он вздрогнул, вскочил.
– Ты куда? – Клава ухватила его за руку.
– Открыть…
– Это Фимка орет. Хочет посмотреть, один ты, или нет. Он дурак, потом растрепется по селу…
Они сидели бок о бок, слушая, как содрогается дверь от ударов, бешенных, диких. Крепкая дверь, старая работа. А не выйти ли, наподдать этому Фимке по-нашенски, пусть знает?
Что-то не хотелось. Уж больно здорово колотил тот по двери. Да и Клава…
Но придется. Он привстал, но девушка вцепилась в плечо:
– Не ходи!
– Да что ты? Дам раза, покатится с катушек!
– Не ходи! Увидит…
И верно, как же он сам не подумал. Того Фимке и нужно – посмотреть, один ли он здесь. Деревня, Клаве позор. Ну, Фимка, дождешься…
На счастье, стук стих. Надоело, или подумал, что нет Никифорова внутри. Ушел в окно, да и все, чего надрываться? Орал-то Фимка здорово, натурально. Прямо артист.
– Я… Мне пора. – Клава тяжело, неуклюже слезла с лежака.
Вот так. Обгадил дружок ночку.
– Погоди, – пытался он удержать девушку, но больше для порядка, чувствовалось, ни ему, ни ей оставаться вместе не хотелось.
– Завтра свидимся, завтра, – Клава торопливо оделась. Он коснулся девушки и дрожь, крупная, неудержная, передалась и Никифорову.
– Завтра… – но закончить было нечем. Он потерянно, тупо смотрел, как Клава вскарабкалась на подоконник и соскользнула вниз. Надо бы проводить, наверное. Никифоров поспешил к окну, и увидел лишь мелькнувший в кустах сарафан. Тут же облако закрыло луну, и только на слух можно было проследить путь Клавы. Ладно, все равно не догнать, да еще он в таком виде, пока оденется…
Он и оделся, споро, быстрым шагом дошел дошел до калитки, но Клавы и след простыл. Где-то вдалеке слышались ее шаги, но громче их были песни цикад, расшумевшихся в ночи,
Пойти да наподдать Фимке?
Утром. Спокойно, без гнева, уча даст раза. Без гнева – главное.
Он вернулся, вскарабкался на подоконник.
Знобило. Странно, потому что здесь, у окна было тепло, воздух снаружи, спокойный, парной. Внутри же действительно зябко. Келья, да. Однако в монахи ему не с руки.
Удивительно, то цикад, орущих за оградою, здесь совершенно не слышно. Тишина.
И, будто услышав мысли Никифорова, кто-то засмеялся:
– Хи-хи-хи…
Смеялись совсем рядом, за дверью. На Фимку даже и непохоже, слишком высок, тонок голос. Наверное, кто-нибудь к нему пришел тоже…
Он лег, укрылся, поджал к животу ноги. Теплее, теплее… С Фимкой разбираться не хотелось, пошел он – именно туда. Дурак и есть дурак. Утром, конечно, придется стукнуть по шее, а лучше – высмеять как-нибудь. Мол, снилось мне, Фимка, будто ты…
Шорох, громкий, неприятный, шел снизу, из подполья. Развели крысюков. Церковные крысы, они – бойкие. Стало неприятно, хотя вообще-то Никифоров крыс не боялся, но и любить их было не за что. Воры, разносчики заразы, первый признак непорядка. Давить их нужно, давить и травить. Пирожки с толченым стеклом.
Возня стихла, но еще раньше Никифоров согрелся и уснул. Подумаешь, невидаль – крысы под полом…
Проснулся рано, поутру, с деревенскими. Вспоминал давешнее – сон, нет? Сейчас все казалось зыбким, чудным, такое с Никифоровым бывало. Приснится порой, что отец ему револьвер подарил, и потом, между снами, мучительно вспоминаешь, куда же револьвер задевался. А снилось часто, он наизусть знал тот револьвер, пятизарядный «кольт», старую, но безотказную машинку, свою машинку. Разумеется, никакого «кольта» на самом деле не существовало, у отца был именной «наган» вороненой стали, из которого Никифоров даже стрелял, но то – у отца.







