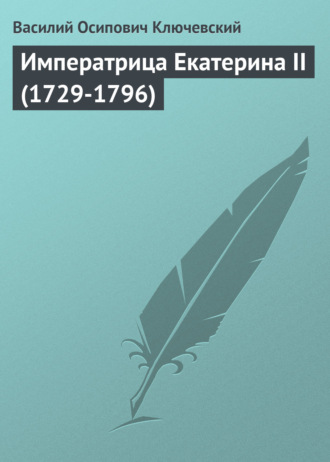
Василий Осипович Ключевский
Императрица Екатерина II (1729-1796)
Власть без ясного сознания своих задач и пределов и с поколебленным авторитетом, с оскудевшими материальными и нравственными средствами, общественное мнение, питавшееся анекдотами и пересудами, без чувства личного и национального достоинства, весь порядок, державшийся страхом и произволом и направляемый, по выражению Н. Панина, «более силою персон, нежели властью мест государственных», при крайне низком уровне гражданского чувства и сознания общего интереса, без любви к отечеству, – в таких чертах можно представлять себе, по рассказам людей екатерининского времени, наследство, доставшееся Екатерине II от эпохи временщиков и случайных правительств.
Люди второй половины XVIII в., так гордившиеся своим превосходством перед отцами в образовании и общежитии, естественно, наклонны были лучше помнить темные, чем светлые, стороны ближайшего к ним прошлого. Эта наклонность могла быть сама по себе только благоприятна для Екатерины: о первых шагах ее по воцарении должны были судить по сравнению ее с ближайшими предшественниками. В этом отношении чего стоило одно царствование Петра III! После него надобно было уметь царствовать непопулярно. Но Екатерине нельзя было пользоваться властью по-прежнему. Прежде власть привыкла искать самых надежных опор порядка в силе и угрозе, наиболее действительных народноисправительных средств – в наказаниях. Екатерине надобно было искать таких опор и средств совсем в другом порядке влияний, обратиться к другим народновоспитательным приемам, более тонким, чем кнут и ссылка, и более справедливым, чем конфискация. По своему происхождению и воспитанию, по своей судьбе, по своему образу мыслей, наконец, она была слишком нова для России, чтобы сразу войти в привычную туземную, исторически пробитую колею. Она сама это сознавала и в первый год царствования признавалась французскому послу Бретейлю, что ей нужны годы и годы, чтоб ее подданные привыкли к ней. Притом ей нужно было слишком многое оправдать в своем положении, чтобы предупредить попытки повторить против нее соблазнительное дело 28 июня. Властью, так приобретенной, как она была приобретена, нельзя было пользоваться втихомолку. Но было недостаточно и привычной беседы с народом в области уголовного права. Предстояло объясниться с обществом прямо, начистоту и даже ввести такое объяснение в обычный порядок управления, чтобы привести политику «в пристойную знатность пред публикою», как внушал Н. Панин. Словом, надобно было обратиться к умам и сердцам, а не к инстинктам. В цепи отношений, связующих власть с обществом, не было одного важного звена, которое Петр I пытался вставить, но которое после него не было закреплено и выпало. Это звено – народное убеждение, совместное дело власти и общества, слагающееся, с одной стороны, из сознания общего блага, с другой – из уменья внушить это сознание и уверить в своей решимости и способности удовлетворить потребностям, составляющим общее благо. Екатерина понимала, как важно для успеха правительственных мер согласить с ними народное разумение. Объясняя Вольтеру некоторые статьи своего «Наказа», она писала, что единственное средство для законодателя заставить всех слушаться голоса разума, – это убедить, что его требования совпадают с основаниями общественного спокойствия, в котором все нуждаются и польза которого всякому понятна. Продолжая попытку Петра, Екатерина в эту сторону прежде всего направила свои усилия. Но, обращаясь к разуму народа, Екатерина будила в нем и чувства, которые способны были еще сильнее склонять умы на сторону законодателя.
Так предпринята была Екатериной достопамятная кампания, целью которой было завоевать народное доверие и сочувствие. Эта кампания велась выходами, поездками, разговорами, учащенным присутствием на заседаниях Сената, более всего указами и манифестами. Начиная с манифестов 28 июня и 6 июля 1762 г. о воцарении при всяком удобном случае – в указах о взяточничестве, о разделении Сената на департаменты, в манифесте о заговорщиках, в рескриптах русским послам и губернаторам, даже в частных беседах – настойчиво заявлялось о происхождении нового правительства, о его намерениях и заботах, о том, как оно понимает свои задачи и свое отношение к народу. Прежде всего предстояло выяснить источники приобретенной власти. Новое правительство было горячо приветствовано общественным мнением, и общественное мнение было провозглашено законным политическим фактором, органом народного голоса, его приветствие, скрепленное присягой, формальным актом народного избрания. Манифест 28 июня гласил, что императрица принуждена была вступить на престол, побуждаемая опасностями, какими грозило всем верноподданным минувшее царствование, «а особливо видев к тому желание всех наших верноподданных явное и нелицемерное», потому престол принят «по всеобщему и единогласное наших верных подданных желанию и прошению», как было прибавлено в рескрипте о восшествии на престол русскому послу в Берлине для сообщения тамошнему двору. Бецкий простодушно думал, что 28 июня совершился привычный гвардейский переворот, которому он сам содействовал, подговаривая гвардейцев и разбрасывая деньги в народ, и потому считал себя главным его виновником. Раз, вторгнувшись к Екатерине, он на коленях умолял ее сказать, кому она считает себя обязанной своим воцарением. «Богу и избранию моих подданных», – был ответ, который поверг. ецкого в совершенное отчаяние, так что он начал было снимать с себя александровскую ленту, считая себя недостойным этого знака отличия при таком непризнании его заслуг. Так как перемена на престоле произведена была, по словам манифеста, для избавления отечества от опасности, какими грозило прежнее царствование, от потрясения православной веры, уничтожения русской славы и чести, ниспровержения внутренних порядков и даже «от неизбежной почти опасности империи сей разрушения», как выразился в одном документе сенатор А. П. Бестужев-Рюмин, то на медалях в память коронации Екатерины была сделана надпись: «За спасение веры и отечества». Церковные проповедники, особенно архиепископ новгородский Димитрий Сеченов, первый член святейшего синода, еще смелее и восторженнее провозглашали Екатерину защитницей веры, благочестия и отечества, восстановительницей чести и достоинства своих подданных, «всех скорбей и печалей наших окончанием» и признавали событие 28 июня делом божиим, чудным строением не человеческого ума и силы, но божиих несказанных судеб и его премудрого совета. «Будут чудо сие восклицать проповедники, говорил в коронационном слове архиепископ Димитрий, напишут в книгах историки, прочтут с охотою ученые, послушают в сладость некнижные, будут и последние роды повествовать чадам своим и прославлять величие божие». Екатерина, разумеется, охотно усвоила взгляд церковных проповедников на дело 28 июня и думала увековечить его в законодательстве как достопамятный исторический факт: в сохранившемся собственноручном черновом проекте манифеста о престолонаследии она писала, что чудный промысел всевышнего «вручил нам самодержавство сей империи образом, человеческим предвидением непостижимым».
На восторженные приветствия Екатерина отвечала решительным осуждением павшего правительства и заявлением широкой программы и совершенно нового направления начавшегося царствования. В манифестах и указах читали о вреде самовластия и гибельных следствиях, какие от самовольного, необузданного и никакому человеческому суду не подлежащего властителя произойти не могут. С высоты престола пред богом целому свету сказывалось, «что от руки божией прияли всероссийский престол не на свое собственное удовольствие, но на расширение славы его и на учреждение доброго порядка и утверждение правосудия в любезном нашем отечестве», заявлялось правило неоспоримое, что тогда только обладатели государств прямо наслаждаются спокойствием, когда видят, что подвластный им народ не изнурен от разных приключений, а особливо от поставленных над ним начальников и правителей, возвещалось искреннее и нелицемерное желание прямым делом доказать, «сколь мы хотим быть достойны любви нашего народа, для которого признаваем себя быть возведенными на престол», и наиторжественнейше обещались императорским словом государственные учреждения прочные, на законах основанные, и выражалось упование предохранить этим целость империи и самодержавной власти, «бывшим несчастием несколько испроверженную, а прямых верноусердствующих своему отечеству вывести из уныния и оскорбления». И все это с уверениями в ежедневном материнском «о добре общем» попечении. Власть была достигнута переворотом не во имя права, не лицом династии, неправильно устраненным, как при воцарении Елизаветы, была захватом, а не возвратом права. Казалось бы, такой акт нуждался в оправдании, с ним надобно было как-нибудь примирить общество. Екатерина не делает ни того, ни другого: оправдывать приобретенную власть значило бы напрашиваться на сомнение в правильности ее приобретения; стараться примирить с ней общество значило бы заискивать у противников, выпрашивать у них то, что уже было взято, наводить на мысль о ненужности случившегося, в том и другом случае ронять авторитет власти.
«Наказ» был систематическим изложением начал, которые заявлялись в манифестах и указах первых лет, приступом к исполнению наиторжественнейшего обещания, данного в манифесте 6 июля 1762 г., установить государственные учреждения, в которых управление шло бы по точным и постоянным законам. Многое в нем по новизне предметов могло показаться большинству читателей невразумительным, иное-неожиданным. Сам автор предвидел, что некоторые, прочитав «Наказ», скажут: не всяк его поймет. Непривычным к политическому размышлению умам нелегко было усвоить и объединить четыре определения политической свободы, одно отрицательное и три положительных. Государственная вольность по «Наказу»: 1) не в том состоит, чтобы делать все, что кому угодно, 2) состоит в возможности делать то, чего каждому надлежит хотеть, и в отсутствии принуждения делать то, чего хотеть не должно, 3) она есть право все то делать, что законы дозволяют, и 4) есть спокойствие духа в гражданине, происходящее от уверенности в своей безопасности. Русские умы впервые призывались рассуждать о государственной вольности, о веротерпимости, о вреде пытки, об ограничении конфискаций, о равенстве граждан, о самом понятии гражданина – о предметах, о которых рассуждать дотоле не считалось делом простых людей, – а те, чье это было дело, рассуждали о том очень мало. Всего более должны были поразить русского читателя те статьи «Наказа», где власть определяет самое себя, свое назначение и отношение к подданным. Слова сами по себе не могут составлять преступления по оскорблению величества; в самодержавии благополучие правления состоит отчасти в кротком и снисходительном правлении; великое несчастье для государства, когда никто не смеет свободно высказывать своего мнения; есть случаи, где власть должна ограничивать себя пределами, ею же самою себе положенными; лучше, чтобы государь только ободрял и одни законы угрожали; самодержавство разрушается, когда государь свои мечты ставит выше законов; льстецы твердят владыкам, что народы для них сотворены, «но мы думаем и за славу себе вменяем сказать, что мы сотворены для нашего народа, и по сей причине мы обязаны говорить о вещах так, как они быть должны».







