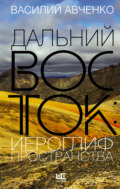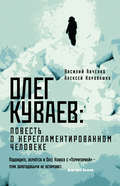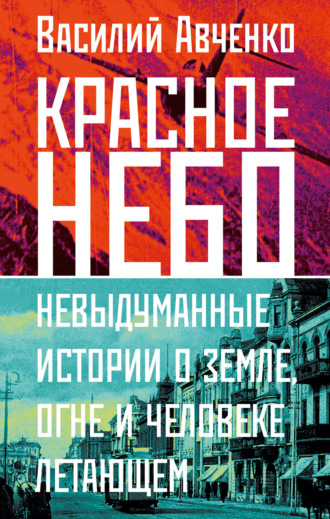
Василий Авченко
Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем
Если он действительно надолго забыл Асю – когда он вспомнил её вновь? В одном из писем 1950 года Фадеев рассказывает: «Впервые после нескольких лет полного забвения я вновь вспомнил о вас как раз после того, как Гриша (Билименко. – В. А.) и Голомбик видели вас и, приехав в Москву, рассказали о вас. Не знаю, видели ли они “Нон Эсма”, но они рассказали о вашем браке. Конечно, они не знали того, что вы вышли замуж за поэта, не знали его псевдонима, говорили просто, что вы вышли замуж за одного из сыновей Матвеева… Я, между прочим, знаю семью Матвеевых и где они жили. Я знал самого старика[15], знал и знаю одного из его сыновей, который работал тогда в кооперации Владивостока и сейчас работает в кооперации в Москве[16], знал другого его сына, поэта-футуриста, который писал под псевдонимом “Венедикт Март”, знал младшего Матвеева, который был в партизанах[17], а “Нон Эсма” я почему-то совершенно не помню. После вашего письма ко мне прошлым летом я даже невзначай спросил поэта Николая Асеева, который в наши с вами годы был во Владивостоке и знал поэтическую среду, знавал ли он “Нон Эсма”, – он мне сказал, что “был такой”. Но я лично не смог его вспомнить…» Очевидно, разговор с Билименко и Голомбиком состоялся ещё в 1920-х годах. Однако Фадеев не делал попыток найти Асю и даже на первое её письмо не ответил. Зато ответил на второе – и писал ей до самой смерти.
Эти письма – автобиографическая повесть Фадеева о его приморской юности. Много лет не бывавший в Приморье, он без запинки и ошибки вспоминает улицы, фамилии, даже погоду; тоскует по местам и людям, воскрешает юношеские переживания. Это Фадеев непривычный, незнакомый, настоящий, которого не все уже могли видеть за железным занавесом его гранитно-медального облика. Рискну сказать, что эти письма, посмертно вышедшие в журнале «Юность» в 1958 году и составившие книгу «…Повесть нашей юности», – лучшие тексты Фадеева наряду с «Разгромом». Это документальная лирическая проза, исповедь, ненаписанные мемуары. В них рождаются и умирают так и не воплощённые в рассказах или повестях сюжеты (их, безжалостно абортированных, у Фадеева куда больше, чем доведённых до результата), поблескивая, как золотинки в речном песке. Иные считают, что после «Разгрома» Фадеев пропил, продал, промотал свой яркий юношеский талант. Письма к Асе доказывают, что это не так. В них он снова подлинный: молодой, страстный, любящий, беспощадный к себе, страдающий, сомневающийся. В этих письмах (может, на тот момент – уже только в них!) Фадеев чувствовал себя свободным от предыдущих лет, должностей, тяжестей. Возвращался в юность, снова ощущая себя «мальчиком с большими ушами». Слова его становились горячими, как молодая партизанская кровь (показательна оговорка Веры Инбер, назвавшей письма к Асе «юношескими»). Под бронёй орденоносца, лауреата, писательского генсека жил юноша чувствительный, ранимый, но вовсе не инфантильный. В письмах литературного генерала оживал идеалист и романтик, которого многие уже не видели за обликом большого писателя и чиновника, как не виден стремительный поток под сковавшим реку ледяным панцирем. Эти письма – сбивчивые, торопящиеся; кажется, слышно, как учащённо бьётся сердце автора. Это и есть хроника сердца, эпистолярная кардиограмма, в которой пульсируют любовь и боль.
Вскоре после начала переписки, осенью 1949 года, Фадеев во главе советской делегации попал в Китай, где ровно в эти дни победой коммунистов Мао заканчивалась долгая гражданская война. «Что я переживал, когда доехал до Харбина во время китайской поездки! Подумать только, – от Харбина всего лишь часов двенадцать езды до Ворошилова[18], а от Ворошилова четыре-пять до Спасска!.. Так хотелось дать вам телеграмму именно из Харбина, но в ту пору ещё нельзя было дать частной телеграммы из Харбина в Приморье».
«Последнее возрождение юности и её конец»
Летом 1950 года они увидятся вновь – тридцать с лишним лет спустя. Фадеев пригласил Александру Филипповну в Москву, выхлопотал у президента Академии наук СССР Сергея Вавилова (для рядовой учительницы!) путёвку в подмосковный Дом отдыха учёных в Болшево. Хотел и сам приехать в Приморье, но уже давно не принадлежал себе, став, по собственной формулировке, «человеком-учреждением».
«Он раздался в плечах, шея стала по-мужски крепкой, и, вопреки законам природы, он с годами похорошел лицом. Вот только поседел наш Саша. Ой как поседел! Голова совсем как снег», – писала потом Колесникова. «Конечно же, я бы его не узнала. Он вырос, наш Саша… а за последующие тридцать лет стал удивительно красивым».
– Здравствуйте, Ася! Это я, Саша.
– Здравствуйте, Саша!
«И нет никакой скованности и напряжённости… Я встретила нашего Сашу. И одет он был просто, аккуратно, чисто, но костюм и туфли его были неновыми».
Не сразу, но они перешли на «ты».
– Ты, Саша, был недавно в Нью-Йорке. Не пытался узнать о Лии?
Нет, не пытался. Ланковские исчезли из их жизни насовсем.
Имелись ли у Фадеева какие-то осознанные намерения, связанные с Асей? Или же он просто хотел заново пережить свою юность?
В следующих письмах он сообщает, что «с трудом удерживался от слёз», когда Ася уехала, хотя той степени близости, о которой он мечтал, не получилось.
Выходит, всё-таки рассчитывал на что-то большее? Она была свободна – второго мужа давно не было в живых. Сам он был женат и бросать семью вовсе не собирался… Никакой любви, конечно, не вышло и, видимо, уже не могло выйти. «С тобой, первой и чистой любовью души моей, жизнь свела так поздно, что и чувства, и сама природа уже оказались не властны над временем истекшим, над возрастом, и ничего в сложившейся жизни уже не изменить, да и менять нельзя». Тем не менее год спустя Фадеев напишет: в 1950-м прошло «чудесное, счастливое лето моей жизни… последнее возрождение юности и её конец».
Потом Фадеев вдруг снова переходит на «вы» и, заметив это, спохватывается: «Как будто мы идём не к завершению круга жизни нашей, а всё начинаем сначала!»
Переписка с Асей поднимала «светлую печаль в сердце», но и причиняла боль, заставляла испытывать тоску, думать о невозможности счастья и скором завершении земного пути. «Тот прекрасный чистый круг жизни, который был начат мною мальчиком, на Набережной улице, в сущности, уже завершён и – как у всех людей – завершён не совсем так, как мечталось…» Внешне – победитель, большой писатель и чиновник, он ощущал себя едва ли не неудачником. Кто мог тогда знать, что с подачи Хрущёва будет опубликован оскорбительный некролог, объясняющий самоубийство Фадеева сугубо алкоголизмом, а много позже, с распадом Союза, книги его исчезнут из школьной программы? Фадеев станет писателем «неактуальным», оставшимся навсегда в своей эпохе…
В период переписки с Асей его терзали сразу несколько кризисов: личный, возрастной, творческий, административный, медицинский.
Сбои случались и раньше. Ещё в 1929 году Фадеев писал: «В дом отдыха меня загнала неврастения в очень острой форме. Объясняется она всё возраставшим… противоречием между желанием, органической потребностью писать… и той литературно-общественной нагрузкой, которая не даёт возможности писать… Горький… предупреждал меня… что… дело может кончиться просто гибелью дарования».
Теперь всё усугублялось, становилось страшнее, сильнее, глубже. «Нездоровые прорывы в моей работе бывали и раньше и сопровождают мою жизнь… В них много нездорового в силу их затяжного характера – это признаки алкоголизма». «Нападающие на меня изредка полосы самой чёрной меланхолии… трудно бывает развеять, потому что сама работа моя связана с одиночеством и психическими процессами. В такие периоды я не могу ни писать, ни читать».
Асе он чаще всего писал из больницы – просто потому, что там у него появлялось время. В июне 1949 года – три письма подряд, в апреле-мае 1950-го – одиннадцать писем, и все огромные. Писал он и другим дальневосточным знакомым, но Асе – больше и страстнее всех.
«Здоровье мое сильно уже выправилось, здесь, в санаторных условиях… осталось его только закрепить. После больничных процедур здесь меня уже почти не мучают, времени стало больше, настроение бодрое, и я тебе тоже смогу писать почаще». «У меня началась сердечная аритмия, бравурный сердечный разнобой, похожий на современную музыку». «Я очень плохо сплю и превратился в сомнамбулу». «У меня развился за эти годы очень сильный склероз сосудов сердца и особенно аорты». «Обострилась болезнь печени, и я попал в больницу…» «Выйду из больницы… не таким, каким был даже ещё два года назад, – выйду полуинвалидом (говорю не в шуточном, не в переносном, а в буквальном смысле слова)». «Врач констатировал у меня… “полиневрит”, болезнь нервных оконечностей… Я не мог держать в руке не то что ручку или карандаш, а даже ложку».
Чувствуется, как Фадеевым постепенно завладевало чёрное отчаяние. 5 марта 1953 года умер Сталин, 5 марта 1954-го – мать Фадеева. «Я двух людей боюсь – мою мать и Сталина, – боюсь и люблю», – приводил Эренбург слова Фадеева. Убеждённый коммунист, человек государственный, новым вождям – Хрущёву и Маленкову – он оказался не нужен. Фадеев писал им пространные письма о том, что нужно изменить систему управления культурой, дать художнику больше свободы, а ему уже не отвечали и времени для аудиенции не находили. «Советская литература по своему идейно-художественному качеству, а в особенности по мастерству… катастрофически катится вниз… Растут невыносимо нудные, скучные до того, что скулы набок сворачивает, романы, написанные без души, без мысли, а в это время те два-три десятка отличнейших прозаиков, которые одни только и могут дать сегодня хотя бы относительные образцы прозы, занимаются всем чем угодно, кроме художественной прозы», – почти кричал в этих письмах Фадеев.
В 1954 году Фадеева отодвинули от руководства Союзом писателей СССР – теперь он не генсек, а только один из нескольких секретарей. Долгие годы он был членом ЦК – на ХХ съезде был избран лишь кандидатом. «Все мы с годами становимся всё меньше хозяевами условий нашего существования… Мы смолоду более смелы, решительны (а подчас легкомысленны) в перемене и выборе того, что нравится и не нравится… Душа ещё молода, и физических сил ещё немало, хочется взмахнуть крылами и взлететь, мечты ещё кипят. Но я с грустью замечаю, что последние шесть-семь лет я живу, маневрируя между служебным и бытовым “как нужно” и душевным “как складывается”. Это порождает глухую, а порой и болезненную неудовлетворённость, но сил для бунта и полёта уже в себе не находишь, и тогда торжествуют над тобой твои слабости, – обманчивая попытка заглушить боль сердца».
Он, разумеется, понимал, что главное его призвание – писательское, работал над «Чёрной металлургией», но и этого уже не получалось. Порой бодрился: «Я действительно пишу лучший мой роман». Потом словно проговаривался: «Роман мой уже поплыл как корабль, многое уже вчерне написано… не дать мне сейчас закончить этот роман – это то же самое, что насильственно задержать роды, воспрепятствовать родам. Но я тогда просто погибну как человек и как писатель, как погибла бы при подобных условиях роженица».
Фадеев – писатель недореализовавшийся, наступавший, по Маяковскому, на горло собственной песне, – с горечью говорил о замыслах, которые его заполняли и умирали неродившимися, о том, что из писателя он превратился «в акына или ашуга». Называл себя несвободным, переобременённым человеком и всё-таки не оставлял административных постов – в Союзе писателей, в Верховном Совете СССР, Всемирном совете мира… Верил, что всё это важно, – да так оно и было. Вот только литература уходила всё дальше – «как молодость и как любовь», говоря словами Есенина. Фадеев это понимал. «В моей жизни я всегда и главным образом был виноват перед… работой. Когда надо было выбирать между работой и эфемерным общественным долгом, вроде многолетнего бесплодного “руководства” Союзом писателей… – всегда, всю жизнь получалось так, что работа отступала у меня на второй план. Я прожил более чем сорок лет в предельной, непростительной, преступной небрежности к своему таланту… Бог дал мне душу, способную видеть, понимать, чувствовать добро, счастье, жизнь. Но, постоянно увлекаемый волнами жизни, не умеющий ограничивать себя, подчиняться велению разума, я… довожу это жизненное и доброе до его противоположности… Любому делу (к сожалению, кроме самого главного своего дела)… я, по характеру своему, отдавал всего себя… Никто, решительно никто, никогда не понимал, не понимает и не может понять меня – не в том, что я талантлив, а в особенностях, в характере моей индивидуальности, которая… слишком ранима… и поэтому нуждается в особенном отношении».
В канун 50-летия Фадеев отказался от пышного банкета в свою честь, назвав себя автором «лишь двух с трудом законченных произведений» – «Разгрома» и «Молодой гвардии». Остальное либо не закончено, как его opus magnum – эпопея о Гражданской войне на Дальнем Востоке «Последний из удэге», либо относится к малым формам. Как, например, рассказ «Против течения» – опять же о Гражданской, сильный и страшный, позже он выходил под названием «Рождение Амгуньского полка».
Фадеев остро переживал невостребованность, невозможность писать. Плюс – здоровье, плюс – бессонница, от которой он лечился нембуталом, глотая его едва ли не пачками и доводя себя до сумеречного состояния, – сегодня этот препарат ни один врач не прописал бы, тем более человеку, больному алкоголизмом и имеющему суицидальные наклонности (первая попытка была ещё в 1943 году). Едва ли не единственная отдушина – эти самые письма к Асе. И – мечты о Приморье: «Мне так безумно хочется в Приморье! Чем старше я становлюсь, тем чаще мысль моя бродит по детству, по юности. Не для того, чтобы уйти от настоящего, не для того, чтобы отдохнуть от бурь жизни, а просто для того, чтобы ещё лучше осознать свой путь жизни и почерпнуть из прошлого – молодости, веры, бодрых сил и чистоты душевной».
Не смог, не вырвался, не приехал.
Последнее письмо к Асе написано 16 марта 1956 года. Изношенному, страстному сердцу оставалось стучать меньше двух месяцев. «Жизнь моя по-прежнему чередуется с длительными периодами заболеваний, а в то время, когда я не болею… у меня бывает большой “перегруз” в работе… Заболевания мои всё те же – печень (хронический гепатит), сердце (недостаточность на почве склероза, изменений мышцы). Теперь почти равное время уходит на жизнь в “обычных условиях” и на жизнь в больнице… Меня очень тронуло и взволновало то твоё письмо, где ты беспокоилась – слово это мало выражает то душевное чувство, которым было пропитано твоё письмо, – нет ли у меня какой-либо постоянной тяжести на сердце, горьких обид и разочарований, и звала меня в родные места, которые, правда, исцеляют, когда есть близкий человек, родная природа, кипучая людская деятельность и всё это – сквозь светлую волну воспоминаний… Независимо от того, что душевной травмы у меня никакой нет… меня и вправду очень потянуло на родину. Я ведь всегда вспоминаю и мечтаю о ней. На сессиях Верховного Совета, пленумах ЦК, разных всесоюзных совещаниях я встречаюсь с дальневосточниками – старыми и новыми, – и все они зовут меня – поехать, посмотреть. Призыв твой, стало быть, пал на почву, всегда взрыхлённую. Иной раз я испытываю просто тоску по Дальнему Востоку. И всё-таки мне невозможно сейчас поехать… Я буду кончать “Удэге”. И вот тогда-то поеду! Поеду надолго, сознавая, что мне как писателю, приближающемуся к шестидесяти, “в самый раз” заняться темами, связанными с моим прошлым. Они также могут быть оснащены современным материалом, но уже более автобиографически окрашены… В сущности, я так мало написал в своей жизни!»
«Не вижу возможности дальше жить»
Колесникова жила до 1987 года. Фадеев 13 мая 1956 года покончил с собой в Переделкине. Незаурядная, нетиповая, великолепная и трагическая жизнь яркого, крупнокалиберного человека. С огнём – винтовочным, с водой – политым собственной кровью льдом Кронштадта. И, конечно, с медными трубами.
Самоубийство – всегда загадка. Ни официальная версия об алкоголизме, ни неофициальная о «замучившей совести», пробуждённой ХХ съездом, его не объясняют. «Обе хуже», обе в равной степени далеки от истины. Вероятно, к самоубийству привёл целый комплекс причин: общественных, личных, медицинских, творческих. В поздних письмах – отчаяние, угнётенность. Последние несколько месяцев он не пил вообще – здоровье не позволяло… Что до совести – да, наверное, в те времена и на тех постах, что у него, святым было остаться нельзя. Но и злодеем Фадеев не был, душа его не была чёрной. Список тех, кому он помогал (даже если одновременно критиковал их, как было приказано, публично – и порой очень жёстко), огромен. Одних спасал от ареста, других вытаскивал из тюрьмы, третьим помогал восстановить честное имя после лагерей. Фадеев, даром что считается сталинистом, был одним из тех, кто приближал оттепель. Ещё до ХХ съезда он написал в различные инстанции десятки ходатайств о реабилитации. После смерти Сталина обращался к новым вождям с предложениями дать творческим работникам больше свободы…
Последний написанный Фадеевым текст – предсмертное письмо в ЦК. В нём нет ни слова о семье – только о Ленине и Сталине (наверное, это говорит о диком одиночестве). Письмо это спрятали и опубликовали только в 1990 году – вероятно, Хрущёв счёл его оскорбительным для себя и поэтому дал команду подготовить соответствующий некролог: мол, тяжело пил человек, в алкогольной депрессии застрелился, а раз так, то принимать его слова всерьёз не следует. Это был единственный случай, когда самоубийство большого человека публично объяснили алкоголизмом, – мелкая месть.
Из письма Фадеева в ЦК: «Не вижу возможности дальше жить, т. к. искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии… Лучшие кадры литературы… физически истреблены или погибли благодаря преступному попустительству власть имущих… Литература – это святая святых – отдана на растерзание бюрократам и самым отсталым элементам народа, и с самых “высоких” трибун… раздался новый лозунг “Ату её!”… С каким чувством свободы и открытости мира входило моё поколение в литературу при Ленине… какие прекрасные произведения мы создавали и ещё могли бы создать! …Созданный для большого творчества во имя коммунизма, с шестнадцати лет связанный с партией, с рабочими и крестьянами, наделённый богом талантом незаурядным, я был полон самых высоких мыслей и чувств… Но меня превратили в лошадь ломового извоза, всю жизнь я плёлся под кладью бездарных, неоправданных, могущих быть выполненными любым человеком, неисчислимых бюрократических дел… Самодовольство нуворишей от великого ленинского учения даже тогда, когда они клянутся им… привело к полному недоверию к ним… ибо от них можно ждать ещё худшего, чем от сатрапа Сталина. Тот был хоть образован, а эти – невежды.
Жизнь моя как писателя теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни.
Последняя надежда была хоть сказать это людям, которые правят государством, но в течение уже трёх лет, несмотря на мои просьбы, меня даже не могут принять.
Прошу похоронить меня рядом с матерью моей».
Эхо выстрела, прозвучавшего в Переделкине воскресным майским днём 1956 года, слышится теперь на каждой фадеевской странице. Буквализировав избитую метафору, он поставил последнюю точку кровью собственного сердца.
Узнав о самоубийстве, Лидия Чуковская сказала Анне Ахматовой: «Лет через пятьдесят будет, наверное, написана трагедия “Александр Фадеев”».
Писать её оказалось некому. Фадеев из моды вышел.
Как писатель он был серьёзен и искренен – это уже немало. Литература для него была не развлечением – он всерьёз приравнивал перо к штыку. Убеждён, что с «Разгромом» – стремительным, лаконичным, похожим на стихотворение, раскалённым – он вошёл в литературу навсегда. Рано списывать и «Молодую гвардию», за которой стоят жизнь и правда. Не вина Фадеева, если сегодня над этой книгой не плачут, как плакали раньше; она не стала хуже, это мы стали другими. Но подо льдом по-прежнему бежит живая вода, в недрах спящего вулкана кипит лава. Под неброскими переплётами искрят от высокого напряжения строчки, корчатся и осыпаются буквы, обугливаются от внутреннего жара страницы.
Фадееву – и далеко не только ему из великой и ужасной эпохи мучеников и героев – необходимы возвращение и переосмысление. Новое прочтение, повторное открытие, свободный от перекосов как советской однозначности, так и антисоветской предвзятости взгляд.
* * *
Я был знаком с замечательным человеком – капитаном первого ранга в отставке Михаилом Петровичем Храмцовым (1934–2021), бывшим командиром бригады противолодочных кораблей Камчатской флотилии. Рос он в Спасске-Дальнем, где в 1916-м и 1942 годах родились и мои дед и отец. Классной руководительницей Храмцова была та самая Александра Филипповна Колесникова. Всё – рядом, времена и пространства сжаты и обжиты, глобальная история тесна и интимна. Всякий маленький человек вовлечён в процессы тектонического размаха. Каждый связан с каждым, словно население Земли состоит из считаных сотен людей, а жизнь человечества утрамбована в немногие десятки лет.