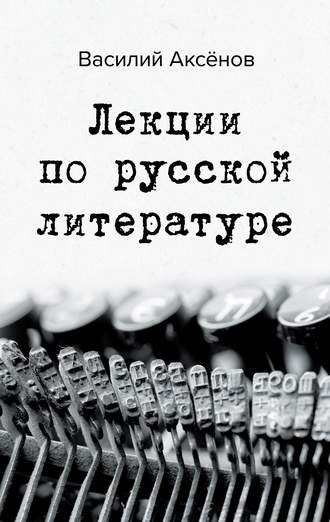
Василий Аксенов
Лекции по русской литературе
Господа, теперь вопрос такой: будем мы делать перерыв или не будем? Это зависит от вас. Сюда приходил какой-то супервизор и сказал, курить здесь нельзя. В аудитории нельзя, да. Ну так что, делаем перерыв или нет? Делаем.
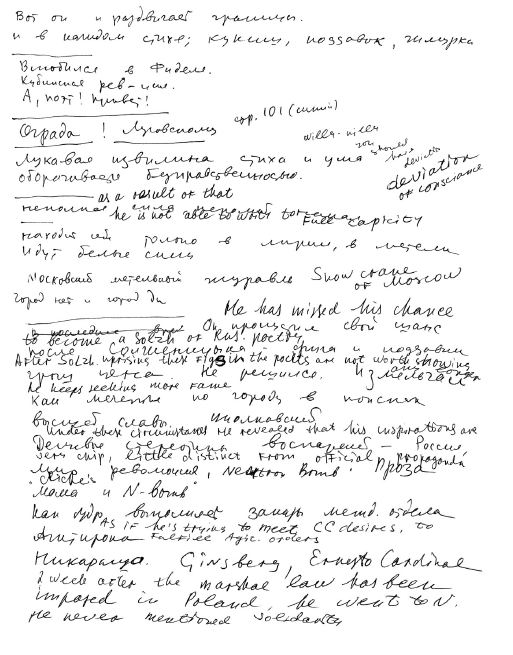
Дудинцев. «Литературная Москва»
Господа, есть вопросы по тому, что я сейчас говорю? Или позже к этому перейдем?
Вторая книга, которая стала бомбой того времени, которую мне не удалось найти, – это книга Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». Я буду писать на доске имена писателей (пишет). Дудинцев. И я был даже доволен, что не достал эту книгу, потому что, как я уже сказал, она довольно скучновата, но тогда была действительно каким-то взрывом, потому что впервые в ней появились портреты – и довольно резкими красками написанные – советских партийных бюрократов. И именно поэтому они, узнав там себя, начали яростную кампанию против Дудинцева, размаха, пожалуй, антипастернаковской кампании. Это была первая широкая кампания по всей стране, когда трудящиеся включаются и выражают свое возмущение. Мы о кампании такого рода будем говорить, когда я коснусь Пастернака, «Доктора Живаго», когда появляются в газетах письма ткачей, металлургов, которые никогда не читали книгу, но тем не менее ее громят. Я сам был однажды жертвой такой кампании, но не такой массированной. У меня был маленький рассказ о таксисте-жулике в Крыму: довольно привычная фигура – таксист, который немножко жулик, ничего особенного. И однажды я шел по Москве вечером и вдруг вижу – на здании газеты «Известия» есть световая газета, там идут буквы новостей: среди новостей типа «Король Иордании Хусейн сделал резкий протест американскому правительству», или еще что-то, – письмо ялтинских таксистов писателю Аксенову. Увидел своими глазами! (Смеется.) Они протестовали против того, что я оклеветал честных ялтинских таксистов. Потом выяснилось, что никто из них не читал, конечно, этого рассказа, а просто в «Известиях» какой-то журналист пишет, затем звонит в этот таксомоторный парк и говорит: «Нам нужно две-три фамилии ваших хороших рабочих, передовых, для подписи». Ему называют фамилии, и так появляется новость.
У Дудинцева история такая: изобретатель Лопатин придумал какую-то штуку, которая будет очень полезна народному хозяйству, но бюрократы и сталинские держиморды не дают ему продвинуть свое изобретение в жизнь. Он человек одержимый, герой, он борется с бюрократической машиной, едет в Москву, старается добиться справедливости, в общем, это история его борьбы. Его антипод – типичный сталинский волевой директор, фамилия его, кажется, Дроздов. Он относится к другому слою советского общества. В книге есть яркая сцена, она больше всех мне запомнилась, когда этот Дроздов возвращается из Москвы в свой городок зимой, его встретила жена, они едут в лимузине, яркий солнечный день, и он говорит шоферу: «Останови, дальше мы пойдем пешком». И они идут с двумя пакетами апельсинов и едят апельсины. Солнце вокруг, снег сверкает, они чистят апельсины и бросают кожуру на снег, а местные мальчики совершенно не понимают, что такое происходит: они никогда не видели апельсинов, понимаете? Они, потрясенные, смотрят на сверкающие апельсиновые корки на снегу. Может быть, это даже и меня вдохновило, потом, в шестьдесят третьем году, я написал «Апельсины из Марокко». И атака партии была неадекватно тяжелой на этого несчастного Володю Дудинцева. Я тогда был студентом и помню, что во всех институтах были обсуждения, но эти обсуждения уже не удавалось проводить [по принципу] «дави, бей его», потому что люди выходили и начинали говорить: «Что вы его бьете, он правду сказал», – уже так стали выступать. В Союзе писателей было обсуждение, где Дудинцеву угрожали очень серьезными санкциями, если он не покается. Мне рассказывал об этом Гладилин, который тогда был совсем молодым писателем, ему было лет двадцать, ему удалось пробраться на обсуждение романа через котельную или через крышу. Володя Дудинцев стоял на трибуне бледный как полотно и отбивался от криков: «Вы предатель нашей Родины!» и тому подобного, говорил: «Я не предатель нашей Родины, я люблю свою страну, но, когда я вспоминаю, как немцы громили нашу армию в начале войны, я не хочу, чтобы это когда-нибудь повторилось, вот почему я против бюрократии». То есть он выступал с позиции крайнего советского патриотизма. Несмотря на это, его били и лупили со страшной силой.
(Вопрос из зала: Это было уже после двадцатого съезда?)
Да, да, конечно. Я об этом еще скажу. И чем еще интересна антидудинцевская кампания: впервые она стала широко освещаться мировой печатью. Эту кампанию не удалось провести внутри страны, она вдруг вышла на мировую аудиторию, широко освещалась журналистами, книга была переведена, издана во всем мире и стала просто бестселлером, только благодаря этой шумихе. Впервые советская литература оказалась на мировой сцене и под очень плотным наблюдением мировой прессы. Может быть, поэтому его тогда и не выгнали из Союза писателей. Что касается реакции партии, то она была очень жестокой, но в то же время Хрущев высказывался об этой книге очень противоречиво. Он попал в довольно дурацкое положение в пятьдесят шестом и далее годах. Он вроде бы начал антисталинское возрождение, но в то же время был типичный сталинский бюрократ, и он не мог не бить писателей, это была его прямая функция. Но в то же время иногда до него доходило: ведь мы же вроде бы одно дело делаем с такими Дудинцевыми? Помню его выступление по книге Дудинцева, когда он говорил, что да, книга, конечно, вредная, но интересная, и я ее читал, товарищи, без иголочки. Что это означало? Он не колол себя иголочкой, не боялся заснуть, то есть обычно, видимо, вождь засыпал над книжками, а тут ему не нужно было подкалывать себя иголочкой. И все тогда говорили: да, книжечка без иголочки.
И вот в конце пятьдесят шестого года возник альманах «[Литературная] Москва», первая попытка суммировать новые явления литературной сцены, суммировать и собрать эти новые голоса. Я уже сказал о Маргарите Алигер, Маргарита Алигер была к тому времени лауреатом Сталинской премии, автором поэмы «Зоя», которую учили в школе, – о партизанке, которую немцы замучили, это вроде советская Жанна д’Арк такая… Маргарита Алигер (пишет). Она была членом партии и очень правоверным человеком. Я вам прочту ее стихи «Зимняя ночь», о каком-то председателе колхоза, который выходит ночью и слышит, как тают снега, опять снега тают, весна, оттепель идет.
Он глубоко и жадно дышит,
Как будто в жатву воду пьет,
Он зимней ночью ясно слышит —
Весна идет, весна идет,
Как там ни снежно и ни вьюжно,
Вот-вот сугробы стронет с места, вот-вот она возьмется дружно,
Весна двадцатого партсъезда.
С таких партийных позиций они начинали борьбу за обновление в литературе. Уж более партийных позиций даже и не придумаешь, это действительно борьба за коммунизм с человеческим лицом, то, что потом пытались в Чехословакии сделать все эти Дубчеки. И ей [Алигер] потом эта ее партийность обернется боком. Или вот стихотворение в этой же подборке, называется «С кремлевской трибуны». Большой ученый слушает и говорит, что надо очистить землю от сорняков: «Помните, земля чиста от века, целина не знает сорняков, нипочем не прорастет пыреем поднятая нами целина». То есть это идея очищения, чистоты: идея коммунизма сама по себе чиста – ее запятнали сталинисты, Сталин запятнал, нам нужно очистить ее, и она снова пойдет покорять сердца и умы человечества. И большинство поэтических выступлений в сборнике «Москва» – такого рода манифестации. Я думаю, что именно под влиянием этого сборника начался ранний Евтушенко с его манифестациями – он именно и начал все эти манифестации, – каждый его стих, даже о любви, о девушках, о природе, всегда кончался строчкой, которая манифестировала новое отношение к жизни, борьбу за чистоту революционной идеи. Среди авторов этого сборника много было людей опальных, так сказать. Во втором сборнике появился даже один бывший заключенный, то есть уничтоженный писатель, Иван Катаев, его начали печатать. Среди них была и Ахматова, и Заболоцкий вот тоже сидел. Поэт Леонид Мартынов (куда я его дел? а, вот он, здесь), который не сидел, но все сталинские годы не имел возможности печататься, был в немилости, в настоящей опале, и потом появился на страницах этого альманаха. Его манифестации более сложный характер носят… они в политическом смысле на порядок выше. Мне даже запомнился тогда маленький его стишок под названием «Богатый нищий». Это яркий вызов, протест; против чего – я бы даже сейчас определенно не сказал, я не могу расшифровать этого стихотворения. Но ярость там тем не менее основательная.
От города не отгороженное
Пространство есть. Я вижу, там
Богатый нищий жрет мороженое
За килограммом килограмм.
На нем бостон, перчатки кожаные
И замшевые сапоги.
Богатый нищий жрет мороженое…
Пусть жрет, пусть лопнет! Мы – враги!
Кого он имел в виду, точно боюсь сказать, тут нет определенной классовой принадлежности, но ясно, какой-то нехороший человек.
Появился здесь также – я пока говорю о первом сборнике, который не вызвал особенно сильной реакции, – замечательный поэт Николай Заболоцкий. Я сейчас напишу, Заболоцкий. Николай – это понятно, а Заболоцкий вот так (пишет). Он был из ленинградской блестящей поэтической молодежи, и там очень много прошло арестов еще перед войной. Он здесь выступает с большой подборкой стихов, которая открывается стихотворением «Ходоки» – крестьяне идут к Ленину пожаловаться на свои, значит, troubles (смеется). Они идут к нему… как идут мусульмане в Мекку и в Медину, так они идут в Москву. Казалось бы, совершенно правоверное стихотворение, за такие стихи вроде бы не полагается сажать в советскую тюрьму. Но вот посадили все-таки человека, и даже в этом стихотворении есть какая-то боль, которая переламывает, перехлестывает эту официальщину, пропагандистский характер. Выходит Ленин к этим трем мужикам, они вынимают из мешка ржаной хлеб, ему дают и едят вместе с Лениным этот хлеб.
С этим угощеньем безыскусным
К Ленину крестьяне подошли.
Ели все. И горьким был и вкусным
Скудный дар истерзанной земли.
Сразу чувствуется боль этого человека, а не просто «ура» ленинизму, революции. Я бы сказал, что из всего присутствующего в этом сборнике Заболоцкий ближе всего к тому развитию, которым пошла далее русская поэзия уже конца шестидесятых годов, здесь нет манифестаций. Она ближе всего к истинной поэзии. [У Заболоцкого есть] Четверостишие, которое стало хрестоматийным, стало повторяться везде. Стихи называются «Некрасивая девочка» – о маленькой девочке, которая еще не знает, что она некрасива. Она бегает с друзьями, с детьми, играет, и веселится, и наслаждается жизнью, еще не зная, что пройдут годы и она посмотрит на себя и поймет, что она уродливая, и поэт думает, как ей будет ужасно одиноко, как ей будет горько. Ему горько и больно за нее, это не связано ни с двадцатым съездом, ни с культом личности Сталина, ни с чем (смеется), слава богу, что не связано. Он пишет:
…Младенческая грация души
Уже сквозит в любом её движенье.
А если это так, то что есть красота
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
Я помню, эти стихи все время повторяли в те дни.
В этом сборнике вдруг мы увидели стихи Анны Ахматовой. Великая русская поэтесса, царскосельский соловей. Эта была, кажется, ее первая публикация после известного ждановского постановления против Ахматовой и Зощенко[7]. После этих ждановских издевательств Ахматова была неприкасаемой. Ее не посадили в тюрьму, но ей не давали никакой работы, и она бы умерла с голоду, если бы не помогали друзья, в частности, между прочим, Пастернак. Я был знаком с Ахматовой, и она рассказывала как-то при мне, как Пастернак ей помогал. У Пастернака было много денег тогда, он делал много переводов. Свои стихи ему не давали печатать, но он переводил. Он, говорит, приезжал, садился на диван и весь вечер читал стихи, разговаривал и никогда денег не предлагал никаких ей, но, когда он уходил, она находила под валиком дивана, под подушкой дивана, плотную свернутую пачку денег, он ей так оставлял. И Ахматова вдруг появилась в этом сборнике с прекрасными стихами, великолепными стихами под названием «Петроград, 1916». То есть преддверие революции, и как это ощущается, преддверие революции. Так не по-советски, что это, я бы сказал, один из самых опасных материалов сборника, но он прошел незамеченным, его как раз не били.
Все уже на местах, кто надо;
Пятым актом из Летнего сада
Пахнет… Призрак цусимского ада
Тут же. – Пьяный поет моряк…
Словно в зеркале страшной ночи
И беснуется, и не хочет
Узнавать себя человек,
А по набережной легендарной
Приближался не календарный —
Настоящий Двадцатый Век.
Немножко даже страшновато становится.
Публикация Ивана Катаева любопытна сама по себе… сейчас найду, где это отметил… Вот второй номер, о котором я говорил, чем он открывается и чем завершается. Публикация Ивана Катаева любопытна сама по себе тем, что он был репрессирован, расстрелян – он погиб в лагерях. Рассказ, который здесь напечатан, – обычный, грамотный, среднего качества, ничего особенного, рассказ как рассказ. Не стоит на нем подробно останавливаться, но в предисловии впервые сказано об авторе как о жертве сталинских репрессий. Первый съезд советских писателей избрал Ивана Катаева членом правления Союза писателей СССР, в тридцать седьмом году в расцвете творческих сил он был арестован по ложному обвинению – по ложному обвинению! – и погиб в заключении. Тогда не надо было вообще никаких обвинений, а просто людей пачками арестовывали по спискам. Я сейчас напишу «Катаев», не путайте его с Валентином Катаевым, это другой человек.
(Вопрос из зала: Не родственник?)
Нет, не родственник (пишет). Иван, а тот Валентин.
Далее я хочу сказать несколько слов о двух рассказах Юрия Нагибина. Это сейчас известный очень писатель (пишет), он, кстати, собирается в Вашингтон приехать скоро, он уже здесь был, читал в американских университетах. Это очень хороший писатель, высокой марки профессионал, и вся его творческая жизнь прошла совершенно благополучно, его никогда не били, за исключением этой публикации в альманахе «Литературная Москва». Тогда его били за эти два рассказа. Многие авторы этого альманаха сделали из критики, из всей этой истории разные выводы, как и Юрий Маркович Нагибин, и, видимо, они принесли должные плоды. Рассказы ничего особенного в смысле политической остроты из себя не представляют, с нашей точки зрения. Сейчас какой-нибудь Распутин пишет в сто раз более острые в политическом отношении вещи про деревню. Но тогда рассказы Нагибина так сильно прозвучали, что заставили партию призадуматься. Вот первый рассказ, «Хазарский орнамент» называется. Это охотничий рассказ. Юрий Нагибин принадлежит к тому типу русских писателей, которые очень любят охоту. Это такая русская традиция – ездить на охоту, стрелять уток, рассказывать об этом. Юрий Казаков тоже этим занимался когда-то. Действие происходит во время охоты на уток, в каких-то маленьких избушках, где охотники собираются. И его напарник, с которым он вместе охотится, – это профессор-искусствовед, занимающийся такими отвлеченными понятиями, как, например, хазарский орнамент, он изучает орнаменты, оставшиеся от древнего племени хазар, которые когда-то жили на территории России. Он избрал эту отвлеченную область только лишь для того, чтобы быть подальше от жизни, потому что он боится всего, пишет Нагибин, боится, даже когда начинают критиковать состояние дорог в России: когда говорят, что в Советском Союзе отвратительные дороги, герой рассказа сразу замыкается и старается уйти, лишь бы не поддерживать этот разговор. Хазарский орнамент – это для него спасение. Он не знает, бедняга, что именно в наши дни хазары стали центром дискуссии, сейчас националистическая дискуссия в русской прессе идет, кем были хазары – евреями или славянами (смеется). Вот такой запуганный интеллигент, запуганный человек. И вдруг во время разговора один из охотников оказывается страшным критиканом охотничьего хозяйства, и все ужасно критикует, и резко так высказывается, цитирует какие-то дореволюционные издания. Нагибинский герой старается не участвовать в этой сцене, как вдруг оказывается, что этот критикан не кто иной, как новый, назначенный там секретарь райкома партии. То есть этот секретарь, как Гарун-аль-Рашид, в простой одежде, без слуг и без стражи, путешествует по простым крестьянским полям. И это тоже примета нового времени, и это делает этот рассказ острым. Второй его рассказ «Свет в окне» – это типичная рождественская история, Christmas story. Дом отдыха, где отдыхают простые люди, но в этом доме отдыха есть отдельный маленький домик, где всегда ждут начальство, где, в отличие от основного дома отдыха, три роскошных комнаты, там стоит телевизор, чудесная мебель, там все чисто, идеально, и при этом доме специальная уборщица, которая должна его убирать каждое утро, поддерживать в нем чистоту, там ждут приезда какого-то высокого начальства, которое не приезжает и, видимо, никогда не приедет. А все вынуждены по три, по четыре человека в общих комнатах находиться. Директор дома отдыха понимает, что все это бессмысленно, но не может отказаться от этого, и вдруг он видит, что там горит свет зимней ночью, идет проверить, оказывается, это уборщица пригласила туда своего молодого человека и каких-то маленьких детей, и вот мороз трещит, а они смотрят телевизор и наслаждаются комфортом этой комнаты. И он их оттуда выгоняет: им не по чину там находиться. Такая типичная рождественская история, которая тоже была притчей во языцех и подверглась страшным официальным атакам.
Затем идет большая подборка Марины Цветаевой, первая публикация после ее смерти. Вы знаете, конечно, Марину Цветаеву, да? Это поэтесса, которая была в эмиграции и вернулась перед войной в Советский Союз, а в эвакуации в Елабуге покончила жизнь самоубийством. Имя ее было совершенно неизвестно широким читателям в стране, ее нельзя было даже упоминать, впервые здесь напечатали большую подборку ее стихов, которые совершенно не похожи ни на какую советскую поэзию, с предисловием Эренбурга. Он цитирует ее стихи… Более несчастной поэтессы, более несчастной личной судьбы, чем у Марины Цветаевой, придумать трудно. Ее никто не признавал, и в эмиграции, кстати говоря, к ней очень плохо относились, она постоянно почти голодала, а то и просто голодала, ее очень мало знали, очень мало о ней писали, но тем не менее она пишет еще в юности:
Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я – поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет…
<…>
Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!),
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.
И вот сейчас, после ее смерти, черед настал: везде идут по миру конференции «Цветаева в <нрзб>», и в Советском Союзе миллионы людей ее читают – и обожают! И снова Эренбург, он ее открывает, он пишет о ней статью, снова соединяет цепь времен. Какой-никакой человек, а действительно, он соединял цепь времен. Он сказал нам тогда: настало такое время, когда вы, перепрыгивая через своих отцов, даете руку дедам, соединяетесь с ними. То есть молодые писатели шестидесятых годов, отвергая пятидесятые, сороковые годы и тридцатые даже частично, пытаются соединиться с русской авангардной традицией двадцатых годов, понимаете? С так называемыми «золотыми двадцатыми» годами.
Вот еще один поэт, который после выхода этого сборника был в центре критики. Его имя Яков Аким, сейчас я его найду. Любопытно, какую он выбрал себе судьбу: оказавшись тогда в самом центре литературной борьбы, он предпочел уйти, не стал активным человеком и всю жизнь – я его хорошо знаю – провел, зарабатывая свой тихий литературный хлеб всякими детскими рассказиками, стишками и тихо попивая коньяк в ресторане Дома литераторов. Год за годом, десятилетие за десятилетием, а начинал он как один из плеяды вот этой самой бунтующей литературы, здесь он в стихах упоминает уже и расстрелы:
Там песен яростно безбожных
Немало в детстве я пропел.
И там же услыхал тревожный
Холодный шепоток: «Расстрел».
«Разве умирают как в романах, пригласив парторга в кабинет?» – это он вспоминает советские сталинские романы, а самая большая критика была по поводу его стихотворения «Слепой в метро», где описывается слепец, старик, который оказался в метро по соседству с девочкой, которая везла саженцы берез, и он почувствовал запах весны: запах, опять весна, опять, видите, весна, и эта девочка берет его под руку и ведет на эскалатор, и они поднимаются, и слепцу кажется, что когда кончится эскалатор, то он прозреет. Таков сюжет этого стихотворения. Опять тема весны, девочка, саженцы, слепой прозреет – можно сразу предположить, что имеет в виду автор, и можно его бить. Сейчас я напишу его имя (пишет). Вот, Яков Аким.
Есть здесь также статья того самого Марка Щеглова, некролог на которого закрывает этот сборник. Он пишет о современной драме, и мы ясно видим с первых же страниц, какие он отстаивает эстетические и этические принципы, это критика двадцатого съезда и попытка преодоления догматического эстетизма.
Но самым главным, я бы сказал, центральным, ударным моментом этого сборника оказался рассказ Александра Яшина «Рычаги», сейчас несколько более подробно о нем. Александр Яшин (пишет). «Рычаги», как по-английски рычаг?
(Реплика из зала: Lever.)
Lever? «Levers»? Вы знаете идею рычага Архимеда – если была бы точка опоры, то тогда с помощью рычага он перевернул бы Землю. Поэтому так и называется этот короткий рассказ, в художественном отношении добросовестный, не блестящий, но вполне хорошо написанный, но никаких, так сказать, пластических находок нет… Как осуществляется литература? Новое имя, новый писатель? Осуществляется либо каким-то художественным открытием, пластическим открытием, открытием новой формы, либо открытием нового героя, новым острым социальным ходом, резким столкновением, сюжетом, открытием нового характера, скажем, как Солженицын открыл Ивана Денисовича, либо как Александр Яшин открыл ситуацию саму по себе кризисную. Правление колхоза, вечер, сидят четыре мужика. Курят ужасный табак, самосад, и бросают окурки в какую-то банку. Банка уже полна окурков, дым такой, что еле-еле видно лампочку, лампочка мерцает, радиоприемник трещит, и кажется, что он из-за дыма не работает. А у него просто плохо батарейки работают. И вот эти четыре мужика говорят о своих бедах, о том, что им спускают из райкома план, который невозможно осуществить. Что их как бы поощряют давать свои предложения снизу, план на свою продукцию самим вырабатывать, они это делают, посылают это в верха, в райком, а в райкоме эти планы выкидывают, вместо этого дают им свои, и ничего не идет, всё не работает, хозяйство разваливается, на трудодни дают копейки (трудодни – раньше так оплачивался труд в колхозах, крестьянин проработал день в поле – ему записывают один трудодень, и по этому трудодню дают либо деньги, либо зерно). Они говорят о том, что за трудодень теперь дают десять копеек. Можно себе представить: если работаешь каждый день триста шестьдесят пять дней в году, то получаешь тридцать шесть рублей – в год! Один говорит: а вот мне Костя два килограмма сахара достал в районе, привезли сахар, и он мне два килограмма прислал сахара. В общем, они говорят о какой-то ужасной жизни, и вдруг выясняется, что один из них – председатель колхоза, другой – секретарь парторганизации, еще счетовод и главный земледел этого колхоза. То есть все эти четверо мужиков – шишки колхозные, все они члены партии и ждут просто-напросто пятого члена партийной ячейки, учительницу, чтобы начать партсобрание. Пока партсобрание не началось, они болтают очень искренне о своих горестях, и вдруг в момент, когда разговор достигает определенной остроты, раздается голос старухи, оказывается, бабка – старуха уборщица, сидит в этом правлении, она говорит: «Перестаньте дымить-то, мужики, сколько можно дымить». После этого разговор прекращается (смеется), потому что им казалось, что они одни. Они боятся, Яшин подчеркивает, даже несчастной этой старухи! Наконец появляется учительница, начинается официальное партийное собрание и прекращается жизнь, начинаются формальные словеса партийного собрания, когда воду в ступе толкут. [Собрание изображено], я бы сказал, с определенного рода мистицизмом. Слово «партия» употребляется так, как будто партия сказала, партия решила. Что такое партия? Это и сейчас ведь употребляется в разговорах в Советском Союзе. Партия – это неопределенное понятие, вы не можете точно определить формы этого понятия, не можете определить лица этого понятия. Даже Брежнев говорит: «Партия этого не позволит, партия этого не хочет, партия…» Что же такое партия? Совершенно расплывчатое, мистического характера понятие, которое гипнотизирует всех этих людей. Причем Яшин еще старается сохранить хорошую мину при дурной игре, он говорит о развале жизни колхозной, но в то же время один из мужиков говорит: «А вот в Груздихинском районе, по соседству, у них-то ведь всё иначе, у них-то всё хорошо»[8], то есть Яшин, замахиваясь на очень важную тему, тут же дает некоторый задний ход, говоря, что это, в общем-то, местная беда, что можно быть хорошими хозяевами, более инициативными, и вот в соседнем районе другое управление, и у них там всё идет, всё в порядке. Но даже эти уступки не сделали рассказ менее опасным, менее взрывным, потому что впервые он показал, как действует механизм партийного гипноза. Они о себе, мужики говорят, полушутя: «Мы – рычаги партии на селе». Так официальная пропаганда о них говорит, вы – коммунисты, рычаги партии на селе, имеется в виду, что с помощью рычагов мы перевернем старый мир и начнем новое хозяйство, придет благоденствие, изобилие и так далее. И действительно, когда они не на собрании, когда говорят друг с другом как с друзьями, являются настоящими обычными людьми, а когда начинается официальщина, они под влиянием этого гипноза становятся именно рычагами, бездушными и механическими роботами. Причем здесь еще есть момент, который мне представляется особенно опасным: когда начинается собрание, ведущий начинает говорить особым заговорщическим тоном, как будто осуществляется подпольное собрание. Партия, несмотря на всю свою мощь и полный охват всей жизни, до сих пор является какого-то рода подпольной организацией, есть даже в Советском Союзе такая шутка: наша партия до сих пор работает в подполье. И действительно, всё закрыто, скрыто, этот душок взаимоповязанности, хотя Яшин кончает рассказ на такой ноте, что скоро все перевернется в нашей жизни, исчезнет этот дурман, это все культ личности виноват, это не система нашей жизни виновата, это виноват Сталин, прошлое, культ личности. Этим рассказ кончается – вот придет двадцатый съезд и всё переменит, партия сама очистится, начнется процесс очищения, и люди перестанут быть рычагами. Таков смысл этого рассказа. И он вызывал дикую ярость. Видимо, все-таки партийные идеологи очень туго разбираются в эстетике, но они чувствуют, крысиным чутьем чувствуют, где опасней всего для них. И этот рассказ, действительно, очень опасен, потому что открывает психологическую структуру, как действуют эти рычажки, чем они приводятся в движение.
Мы сейчас пробежались по первому периоду, периоду очень робкого сопротивления. Это было только начало процесса, который сейчас уже принял огромный [размах]. Люди, составившие сборник «Литературная Москва», тоже были своего рода рычагами. Они могли бы стать рычагами этого литературного и духовного обновления, но под ними еще не было новой почвы, новая почва только возникала в то время. Возникала новая среда, новая молодежь, новое поколение писателей, и об этом мы в следующий раз будем говорить. Может быть, вопросы будут? Давайте что-то уточним.








