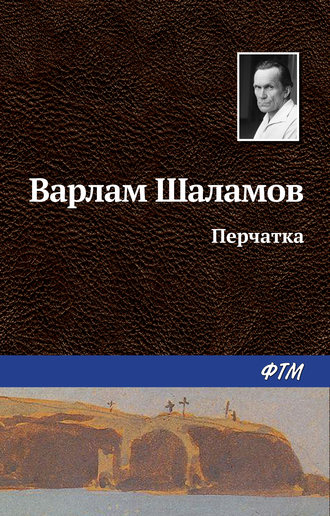
Варлам Шаламов
Перчатка
Глубокой осенью 1943 года, вскоре после нового десятилетнего срока, не имея ни силы, ни надежды жить – мускулов, мышц на костях было слишком мало, чтобы хранить в них давно забытое, отброшенное, ненужное человеку чувство вроде надежды, – я, доходяга, которого гнали от всех амбулаторий Колымы, попал на счастливую волну официально признанной борьбы с дизентерией. Я, старый поносник, приобрел теперь веские доказательства для госпитализации. Я гордился тем, что могу выставлять свой зад любому врачу – и самое главное – любому не-врачу, и зад выплюнет комочек спасительной слизи, покажет миру зеленовато-серый, с кровавыми прожилками изумруд – дизентерийный самоцвет.
Это был мой пропуск в рай, где я никогда не бывал за тридцать восемь лет моей жизни.
Я был намечен в больницу – включен в бесконечные списки какой-то дыркой перфокарты, включен, вставлен в спасительное, спасательное колесо. Впрочем, тогда о спасении я думал меньше всего, а что такое больница и вовсе не знал, подчинялся лишь вековечному закону арестантского автоматизма: подъем – развод – завтрак – обед – работа – ужин, сон или вызов к уполномоченному.
Я много раз воскресал и доплывал снова, скитался от больницы до забоя много лет, не дней, не месяцев, а лет, колымских лет. Лечился, пока не стал лечить сам, и тем же самым автоматическим колесом жизни был выброшен на Большую землю.
Я, доходяга, ждал этапа, но не на золото, где мне только что дали десять лет добавки к сроку. Для золота я был слишком истощен. Моей судьбой стали «витаминные» командировки.
Я ждал этапа на комендантском ОЛПе в Ягодном – порядки транзита известны: всех доходяг выгоняют на работы с собаками, с конвоем. Был бы конвой – работяги есть. Вся их работа никуда не записывается, их выгоняют насильно – хоть до обеда – долби ямки ломом в мерзлой земле или тащи бревна на дрова в лагерь и хоть пеньки пили в штабелях, от поселка за десять километров.
Отказ? Карцер, трехсотка хлеба, миска воды. Акт. А в 1938 году за три отказа подряд – расстреливали всех на Серпантинке, следственной тюрьме Севера. Хорошо знакомый с этой практикой, я и не думал уклоняться или отказываться, куда бы нас ни приводили.
В одном из путешествий нас завели в швейпром. За забором располагался барак, где шили рукавицы из старых брюк и подошвы тоже из ватного куска.
Новые брезентовые рукавицы с кожаной обшивкой держатся на бурении ломом – а я бурил немало ручным бурением – держатся около получаса. А ватные – минут пять. Разница не слишком велика, чтобы можно было рассчитывать на завоз спецодежды с Большой земли.
В Ягодинском швейпроме рукавицы шило человек шестьдесят. Там были и печки, и забор от ветра – очень мне хотелось попасть на работу в этот швейпром. К сожалению, согнутые черенком лопаты и кайловищем пальцы забойщика золотого забоя не могли удержать иголки в правильном положении, и даже чинить рукавицы взяли людей сильнее меня. Мастер, наблюдавший, как я справляюсь с иглой, сделал отрицательный жест рукой. Я не сдал экзамена на портного и приготовился в дальний путь. Впрочем, далеко или близко – мне было совершенно все равно. Полученный новый срок меня вовсе не пугал. Рассчитывать жизнь дальше чем на один день не было никакого смысла. Само по себе понятие «смысл» – вряд ли допустимо в нашем фантастическом мире. Вывод этот – однодневного расчета – был найден не мозгом, а каким-то животным арестантским чувством, чувством мускулов – найдена аксиома, не подлежащая сомнению.
Кажется, пройдены самые дальние пути, самые темные, самые глухие дороги, освещены глубочайшие уголочки мозга, испытаны пределы унижения, побои, пощечины, тычки, ежедневные избиения. Все это испытал я очень хорошо. Все главное подсказало мне тело.
От первого удара конвоира, бригадира, нарядчика, блатаря, любого начальника я валился с ног, и это не было притворством. Еще бы! Колыма неоднократно испытывала мой вестибулярный аппарат, испытывала не только мой «синдром Меньера», но и мою невесомость в абсолютном, то есть арестантском, смысле.
Я прошел экзамен, как космонавт для полета в небеса, на ледяных колымских центрифугах.
Смутным сознанием я ловил: меня ударили, сбили с ног, топчут, разбиты губы, течет кровь из цинготных зубов. Надо скорчиться, лечь, прижаться к земле, к матери сырой земле. Но земля была снегом, льдом, а в летнее время камнем, а не сырой землей. Много раз меня били. За все. За то, что я троцкист, что я «Иван Иваныч». За все грехи мира отвечал я своими боками, дорвался до официально разрешенной мести. И все же как-то не было последнего удара, последней боли.







