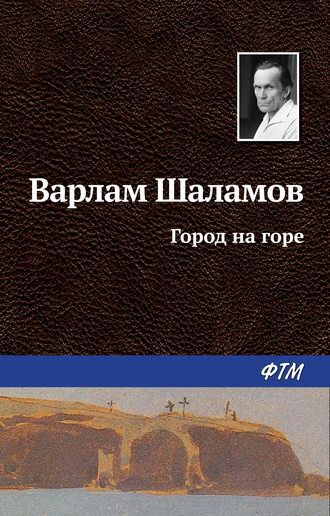
Варлам Шаламов
Город на горе
На допрос меня больше не вызывали, и я сидел не без удовольствия в туго набитой следственной камере Северного управления. Что со мной сделают, я не знал, будет ли мой побег сочтен самовольной отлучкой – проступком неизмеримо меньше, чем побег?
Недели через три меня вызвали и отвели в пересыльную камеру, где у окна сидел человек в плаще, в хороших сапогах, в крепкой, почти новой телогрейке. Меня он «срисовал», как говорят блатные, сразу понял, что я самый обыкновенный доходяга, не имеющий доступа в мир моего соседа. И я «срисовал» его тоже: как-никак, а я был не просто «фраер», а «битый фраер». Передо мной был один из блатарей, которого, рассудил я, везут куда-то вместе со мной.
Везли нас в спецзону, на знакомую мне Джелгалу.
Через час двери камеры нашей раскрылись.
– Кто Иван Грек?
– Это – я.
– Тебе передача. – Боец вручил Ивану сверток, и блатарь неторопливо положил сверток на нары.
– Скоро, что ли?
– Машину подают.
Через несколько часов, газуя, пыхтя, машина доползла до Джелгалы, до вахты.
Лагерный староста вышел вперед и просмотрел наши документы – Ивана Грека и мои.
Это была та самая зона, где шли разводы «без последнего», где овчарки выгоняли на моих глазах всех поголовно, здоровых и больных, к вахте, где развод на работы строился за вахтой, у ворот зоны, откуда шла крутая дорога вниз, летящая дорога сквозь тайгу. Лагерь стоял на горе, а работы велись внизу, и это доказывало, что нет предела человеческой жестокости. На площадке перед вахтой два надзирателя раскачивали, взяв за руки и за ноги, каждого отказчика и бросали вниз. Арестант катился метров триста, падал, внизу его встречал боец, и, если отказчик не вставал, не шел под тычками, ударами, его привязывали к волокуше, и лошади тащили отказчика на работу – до забоев было не меньше километра. Сцену эту я видел каждодневно, пока не отправили меня с Джелгалы. Сейчас я возвратился.







