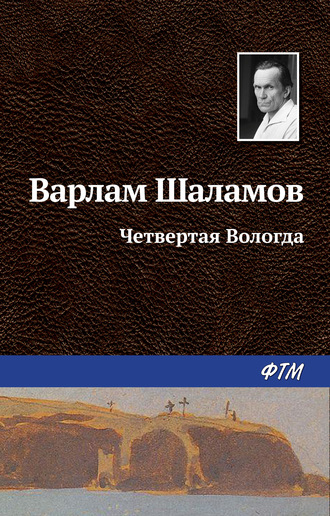
Варлам Шаламов
Четвертая Вологда
V
Глухая дверь с двумя створками – свет шел только из фрамуги – открывалась в зал, или, по домашнему диалекту, – «зало».
Это была проходная комната с такой же двойной створчатой дверью справа, ведущая внутрь квартиры, в комнату сестер. В мое детское время комната эта была наглухо заперта на ключ и никогда не открывалась, а в мое юношеское время была отобрана, и в ней жили жильцы по ордерам горжилотдела. Дверь в комнату сестер забили гвоздями, и пользоваться парадной дверью нам уже почти не пришлось.
На окнах висели легкие кружевные занавески – отец не переносил штор, а между окнами стояли зеркала от потолка до полу в дорогих рамах черного дерева.
Диван и два глубоких кресла черного дерева с плетеными сиденьями стояли слева у стены, еще один диван того же гарнитура с плетеным сиденьем стоял у стены напротив удивительного предмета – ящика тоже черного дерева, застекленного параллелепипеда с открывающейся стеклянной крышкой, со стеклянными стенками вроде аквариума. Но это был не аквариум, а коллекция редкостей, которую вывез отец с Алеутских островов. Коллекция эта была составлена по знаменитому принципу Музея естественной истории в Нью-Йорке. В том музее отец бывал неоднократно за свою двенадцатилетнюю службу в Америке.
Бывал он и в других музеях – в Берлине, в Гамбурге.
Принцип подлинности – вот что отличало черный ящик в зале. Тут не было никаких копий, никаких муляжей, а труды отца Марины Ивановны Цветаевой, наверное, не были одобрены моим отцом.
Не муляжи в натуральную величину, не фальшивые подделки, а подлинность, вот что хранилось в этой стеклянной коробке.
Индейские стрелы, алеутские топоры, культовые предметы эскимосов и алеутов – маски шаманов и орудия еды, моржовый клык во всем его желтоватом блеске лежали тут же…
Тут же лежала бутылка с кораблем внутри – известный портовый сувенир массового производства. Хранил ее отец, наверно, в память океанских своих путешествий. Тут же лежала фотография парохода, на котором отец двадцать лет назад уехал в Америку.
Даже я сумел сделать вклад в эту этнографическую коллекцию. Пойдя в годы революции по подвалам архиерейского дома, по закоулкам Вологодского кремля, я нашел два каменных ядра, которые после проверки у музейных работников – такие проверки отец считал необходимыми, и приговор официальных работников такого рода был для него непререкаем, – каменные эти ядра он запер собственной рукой в нашу домашнюю естественнонаучную коллекцию.
Создание такой коллекции вполне отвечало тщеславию отца, служило темой для «светских» разговоров во время приемов и визитов и семейных праздников, вообще было подходящим материалом для бесед отца, – ненавидящего пустые разговоры.
Эта коллекция должна была высечь искру из моего «медного лба», чтобы загорелся свет не столько Божий, сколько Прометеев.
Лбы моих братьев, наверно, уже были испытаны этим домашним музеем и не дали желаемого результата. Но, критически относясь к педагогической деятельности своего отца, – а он считал себя великим педагогом, – при воспоминании об этой коллекции я могу только восхищаться принципами, правилами, океанским ветром, залетевшим в наши комнаты, и следом великих походов.
Отец хорошо понимал разницу между подлинным и муляжом. Напрасная трата денег в музее Александра III возмущала его.
На стенах не висело никаких портретов – ни священнослужителей, ни царских, ни мертвых, ни живых.
Стены были оклеены обоями, пол выкрашен.
В комнате находилась еще одна экзотичность, вызывавшая разговоры во всем городе, – ее я приберег на конец.
Это висевшая в правом углу большая, даже огромная, икона с огромным ликом Христа в терновом венце. Перед ней круглые сутки горела лампада на серебряной цепи.
Отец и молился перед этой иконой и служил молебны, когда приезжали в праздники «славильщики», – это была традиция, от которой отец уклониться не мог. Но все молебны служили именно перед этой иконой. Это не была старинная икона, не Рублев и не Феофан Грек, хотя Рублевская школа сильная имелась в Вологде – в Прилуках, Кириллове, Белозерске, и старинных икон видел отец, наверное, немало.
Отцовская икона была – репродукция картины Рубенса, простая олеографическая картинка, наклеенная на фанеру и заключенная в узкую раму. Эту репродукцию отец надлежащим образом освятил, освятил по всем каноническим правилам, и молился перед ней – до самого конца жизни.
Бешенство, в которое приходила «черная сотня» Вологды при виде этого кощунства, было в городе хорошо известно. И в столицах тоже.
Митрополит Александр Введенский, приятель отца, при сходных обстоятельствах, пользуясь своим правом епископа, причислил к лику святых свою собственную мать.
Я не епископ и не священник. Но свою маму хотел бы причислить к лику святых.
Тщеславие отца питали другие, вполне земные истоки.
VI
Это была проходная комната с одним окном и тремя дверями, где жили два моих брата Валерий и Сергей. Кровати их стояли, как и кровати сестер, под прямым углом друг к другу, и подоконники, и кровати, и стены в этой комнате были завешаны охотничьим оружием и рыболовными снастями. Под кроватями спали две собаки: сеттер Спорт и пойнтер Орест, визжавшие при каждом движении братьев, когда они собирались на охоту.
У каждого из братьев было свое ружье – двустволка центрального боя, традиционный подарок отца мужчинам в нашей семье с незапамятных времен.
У Сергея, младшего, талантливого охотника и беззаветного рыбака, были еще два ружья, которые он купил самостоятельно, и что, конечно, вызывало всегда одобрение отца. О брате Сергее, которого я считаю не менее известным в городе человеком, чем отец, хотя и своеобразной известности, я напишу отдельно…
Комната была в беспрерывном движении – заряжали патроны, пробовали двустволки, новые охотничьи приборы.
В этой же комнате слева от двери – сразу у стены стоял большой купеческий сундук «со звоном». Этот сундук ни в какой Америке не бывал, но оказался очень удобной вещью гардероба в большой семье – сундук было удобно открывать, и мать держала в нем всякие свои вещи.
А на крышке сундука на тюфячке спал я всю тамошнюю жизнь, тюфячок только становился все длиннее.
Тут я рос и вырос и научился раскладывать длинные литературные пасьянсы. Оружие братьев, их дела не вызывали у меня ни малейшего интереса.
У меня были свои дела – школа, товарищи, чтение, игра в фантики.
Я по возрасту далеко отстаю от братьев и сестер. Ближайшая ко мне по годам сестра Наташа старше меня на семь лет. В 1914 году мне было семь лет, а ей четырнадцать – разница очень велика.
Потом на моих глазах охотничье оружие сменилось боевым – оба брата вернулись из армии – один офицером, другой солдатом. Они привезли, особенно второй брат, большое количество боевого оружия: винтовки, револьверы, пулеметные ленты. После все это было сдано на военные склады – один брат демобилизовался, а второй, Сергей, продолжал служить до 1920 года, когда был убит взрывом гранаты. А собаки были все те же, Спорт и Орест, стали чуть постарше, но выли и в упоении бросали лапы на плечи братьев.
А я все так же спал на том же сундуке и раскладывал свои литературные пасьянсы, свои таинственные фантики.
Позднее, уже в юности, я переехал с сундуком в комнату родителей – в угловую с тремя окнами на двор, где стоял обеденный стол раскладной, самой дешевой фабрики, и семейная кровать с пружинным матрасом и решеткой с шишечками. Ширма отделяла кровать от комнаты. Здесь же стояло единственное кресло отца, домашнее, с высокой спинкой, но не вольтеровское, а со скошенными перилами. Это кресло придвигалось к обеденному столу. Перед письменным же столом стояло кресло отца типа венского стула – легкое, твердое и сухое.
Письменный стол только в юности казался мне огромным – это был фабричный письменный стол с двумя парами тумбочек, в которых хранились отцовские бумаги.
Чернильница, письменный прибор, икона, лампада.
Картина Рубенса после жилищного ограничения переехала именно сюда.
Тут же стоял комод довольно затрапезного вида с всегда раскрытыми ящиками, буфет ломаный-переломаный – и все. Никаких других буфетов и комодов у мамы не было.
В нашем детстве за этим столом обедала вся семья, а в юности моей только мама с отцом и я, а сестер и братьев уже не было дома.
В праздник стол накрывался в комнате сестер.
VII
В комнате сестер с двумя окнами по фасаду стояли две кровати с пружинными матрасами под прямым углом друг к другу, а вдоль стены два шкафа – один вроде комода, поверх которого стоял шкаф карельской березы – много-полочный, многоящичный – кустарное изделие какого-то местного искусника. Это была аптечка – царство отца: всевозможные рецепты на сигнатурках, порошки, пластыри. В те времена не было таблеток, поэтому все лекарства готовились и принимались только порошками. Тут же стояла склянка с йодом и следы брызг от нетерпеливой руки отца – единственного авторитетного лекаря в доме. Какие-то отвары, декокты – все это остатки от каких-то исключительных событий – отец не любил ни лечиться, ни лечить. Он твердо держался курса Земляники: что «если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет».
Смеясь над этой репликой в театре или в домашнем чтении, отец твердо держался этих высмеиваемых правил.
Никаких кавалеров сестры тут принимать, конечно, не могли, и вся их девичья жизнь проходила вне дома.
Рядом со старым комодом, задевая за шкаф карельской березы, стоял большой книжный шкаф отца – средоточие моих детских мечтаний. Если мебель в гостиной была из черного дерева, – книжный шкаф, огромный, глубокий, застекленный, был из красного дерева.
Это тоже было отцово царство, с ключом от верхней и нижней половин. Нижняя была двустворчатая, глухая – не было видно, какие книги там лежат, а верхняя – под стеклом. И я в детстве забирался в комнату сестер, разглядывал, встав на табуретку, отцовские книжные сокровища.
Не давая рассмотреть ничего другого, том в том стояли книжки «Знания», переплетенные, со штампом городской библиотеки Общества трезвости.
Остальные части занимали евангелия и потертые отцовские требники, несколько таких же затертых служебных книг.
Далее на тех же полках стоял «Петербург» Белого, курс «Новая история», сборник «Вопросы идеализма», книга Булгакова «Капитализм и земледелие», Флоренский – «Столп и утверждение Истины», несколько брошюр Маркса, Толстой – «Война и мир» в четырех томах, хрестоматия Галахова для средней школы, трехтомник Михайлова, переводы Гейне без переплета – приложения к журналу «Семья и школа» или «Природа и люди» – и все.
Очевидно, сокровища скрывались в нижней половине, и мне еще только предстояло их разглядеть.
С этими мыслями я слезал с гигиенического венского стула – в квартире не было мягкой мебели – и переходил в следующую комнату, где спал я сам.
VIII
Брат мой Сергей, исключенный из пятого класса вологодской гимназии за неуспеваемость, был в высшей степени примечательным человеком, талантливым и одаренным в не меньшей степени, чем отец, хотя и в несколько ином роде, не менее популярной в городе личностью.
В шестидесятых годах в Москве, в беседе со мной, коренной вологжанин – художник Сигорский[2] сказал: «А я и жил напротив Шаламовской горки».
Шаламовская горка – это Соборная горка, но прозвище получила отнюдь не от отцовской фамилии. Она названа, прозвана и спокон века называлась в Вологде по имени моего брата Сергея.
Выросший на Алеутских островах – знаменитый в городе пловец, удачливый охотник, он был главным организатором знаменитого в Вологде народного катанья – ледяной горки с высокой Соборной горы, где сани взлетали на противоположный берег реки, и свист саней заглушал моторы первых самолетов, поднимавшихся в небо Вологды.
Эта гора строилась под непосредственным руководством брата.
Во всяком любительском общественном деле есть человек, который найдет поливщиков льда, срубит елки в лесу, не менее трехсот, – вколотит эти елки в снег вдоль ледяной дорожки, достанет провода, электрические лампочки, осветит фонарями эту бесплатную городскую гору – любимое зимнее развлечение вологжан. Само собой вышло, что этим делом всегда занимался Сергей.
Он был хозяином Соборной горы, главным инженером. Гору открывали к Рождеству для катания всего города, а таяла она в марте. На следующий год все начиналось сначала.
Все это делалось, разумеется, в порядке, как теперь говорят, субботников, но гораздо раньше события на Казанской дороге. Молодежь трудилась самозабвенно – с утра до ночи. А Сергей управлял всем этим строительством как безусловный и окончательный авторитет.
Я тоже был однажды освещен отблеском его славы.
Брат привел меня на воскресное катанье и поручил какому-то мальчику постарше меня.
– Ну-ка подвинься, пацан, – весело сказал мне усаживающий свою даму на сани «тормозки», как они назывались на ярком вологодском диалекте.
– Это не пацан, – холодно сказал мой провожатый, – это брат Сережки Шаламова.
Пареньку пришлось усадить свою даму чуть пониже, а я остался стоять, разглядывая гору сверху.
Рядом город всегда делал большой каток, где не было, правда, беговых дорожек. Это был прямоугольник льда, который тоже поливали, чистили, загораживали елками.
Ходил Сергей и на лыжах в большие походы.
Летняя известность брата в городе превосходила его зимние успехи.
Знаменитый пловец на великие скорости еще без секундомера, на стайерские дистанции еще без стайерских правил и марафона. Плаванье в одиночку из устья реки Тошни до Вологодского моста – на спор. Каждое лето приносило подвиги брата в таком же роде.
Брат – самый лучший в городе ныряльщик за мертвецами.
Мертвецов – в пьяном, разумеется, виде – в Вологде тонуло очень много. Всегда ездила вдоль берега лодка, нащупывая шестом тело. И уж если тело было не прибито к берегу, а найдено шестом и нащупано – три четверти успеха обеспечены.
Я сам подошел к такой лодке, караулившей что-то в воде или на дне.
– Что это?
– Мертвец.
– Ну что, чего ж его не тащат?
– Сережку Шаламова ждут. Он будет тащить.
И действительно, примчавшийся брат быстро разделся, по какой-то лодчонке перешел на лодку, державшую мертвое тело шестами, и по одному из шестов скользнул вниз и вынырнул вверх, таща за собой за волосы мертвеца. Сдав мертвое тело родным, брат направился для совершения своих очередных подвигов, вроде уличных драк.
Но самая главная слава брата была в его удачливой охоте, брат дышал охотой, вся жизнь была подчинена охотничьему ритму, начиная с ранней-ранней весны, с половодья, где в топях брат убивал уток во время перелетов. Эта охотничья страсть не может быть удовлетворена одним ружьем. Одно ружье – это прогулка, даже охотничьи поездки брата на собственной лодке, с собственным ружьем напоминали охотничьи экспедиции, когда длились по нескольку дней.
В конце какого-то дня еще с берега начинался крик: «Едут, едут, Сережка едет!» – и к городской пристани, где полоскали белье, причаливала лодка, осевшая от тяжести уток.
Добыча тащилась к нам на двор, и мама распределяла на крыльце все это богатство поровну между всеми участниками – только за лодку Сергей получал лишнюю часть. Это я хорошо помню. В его охотах никто не стрелял «на себя», а дележка всегда была у нашего крыльца.
Толпы зрителей, радостный вой похудевших охотничьих псов – все нравилось и отцу, и матери чрезвычайно.
В компании городских охотников Сергей был авторитетом. Он знал на тридцать верст кругом города все охотничьи места. Подружейная охота – прогулка с сеттером по лесам и полям подгородним – мало как-то занимали Сергея. Он ходил и на эти прогулки, но оживлялся только во время больших экспедиций, подготовленных им самим.
Брат был столь же удачливым рыболовом, – отцовские сети – закидной невод и ботальница – всегда были к его услугам. Так подплывали лодки, доверху груженные рыбой, и рыба взлетала на нашем дворе, подброшенная рукой матери.
Кончалось лето – охота, рыбная ловля, плаванье, и начиналась ледяная гора.
В этот круговорот природы брат вписался необычайно удачно.
Весь день с нашего двора шла стрельба – проверка кучности боя и прочих достоинств централок.
Точно так же на сборы ягод, грибов уходили отцовские лодки, и в этих экспедициях Сергей играл немаловажную роль.
Именно Сергей ездил за мукой во время разрухи в какой-то «Ташкент – город хлебный» и привез мешок муки.
Сергей был любимым сыном и матери, и отца.
И хотя я был самым младшим, на десять лет моложе Сережи, последним ребенком матери, я не мог занять в ее сердце первого места. Первое место было отдано целиком Сергею.
Матери – потому, что именно он был вполне реальной поддержкой в семье. Семейный авторитет был для него выше всего на свете, за исключением охотничьих прогнозов. Сергей почти никогда не забывал во время многочисленных охотничьих поездок привезти матери что-нибудь в хозяйство, что всегда было и нужно, и полезно. Для отца и выбора не было. Сергей был его незаживающей раной, вечной обидой – проигранной картой в общественных сражениях отца.
И хотя ничего особенного в исключении брата из гимназии не было, – родившийся где-то на острове Кадьяк, выросший в морской свободе, эту свободу он считал своим идеалом и мог заниматься действительно плохо, – отец никогда не простил отцам города исключение сына из гимназии.
В отцовском понимании, и мать разделяла это мнение, – исключение сына вызвано исключительно политикой – способ личной мести отцу за его смелую борьбу за лучшее будущее России.
Отец не хотел подумать, что Сергей действительно плохо занимался – вырванный из жизни и природы и поставленный в унизительные школьные условия – непереносимые по дисциплине, по ненужности занятий.
Сергей был, безусловно, авторитет, идеал, которому подражали все уличные мальчишки. Но не только по уличным подвигам, не только охотой вошел Сергей в сердце отца и матери.
Сергея всю жизнь преследовала смерть.
Череп брата, левое темя было разрублено в детстве тяжелым ударом – звездчатый рубец прикрывал детскую травму.
В детстве, в состязании луков на Алеутских островах товарищ брата запустил индейскую железную стрелу. Стрела вернулась и рассекла череп брата. Сергей лежал дома, не вставая, там ведь не было больницы, несколько месяцев, между жизнью и смертью. Спор был решен в пользу жизни. И Сергей поднялся.
Весной город управляет ручьями, ищущими выхода, грозящими половодьями. Соборная гора не укреплена и требует внимания и заботы всего населения, чтобы снеговые ручьи отошли по канавам, канавкам, канавищам в большие оттоки – протоки. Сотни мальчишек по берегам орудуют, ставя плотины, разрушая заторы. Брат самым естественным образом занимал командное положение в этой работе – она кончалась с ледоходом.
Река Вологда – медленного течения, и ледоход спокоен, как бы ни были велики снегопады. Важно только управлять лесным снегом весной на ее последнем этапе, когда снеговая вода по побуревшим от грязи и солнца ледяным откосам сольется с потоками весенней воды, несущей разбитые льдины.
Ручьи, водотоки – все это работа нескольких дней в вологодской весне.
Вот тут человек самым естественным образом сливается с природой – традиционное единство.
На Соборной горе стояли испокон века деревянные скамейки, врытые в землю скамейки без всяких спинок, – просто длинные доски прибиты к врытым в землю столбам. Там отдыхали горожане летом и осенью. Да и весной тоже.
В 1914 году с началом войны, с победными реляциями о подвигах генерала Самсонова и Кузьмы Крючкова, с обилием конфетных бумажек с портретами генералов, спичечных коробок, оклеенных физиономией геройского казака, подцепившего на пику десятки тевтонов, в Вологду стали прибывать первые доказательства силы, мудрости и военного таланта наших генералов – захваченные в плен немецкие солдаты и офицеры. Немецкие каски показывались в каждой семье.
Вологда всегда была местом, где размещались военнопленные – и австрийцы, и чехи, и галичане, после Брусиловского прорыва. Но в начале войны – только немцы. Ходили они по улицам города свободно, дышали той же самой весной. Гуляли немцы обычно компаниями – возгласы ликующих мальчишек не смущали их.







