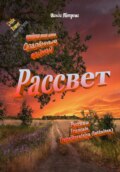Ванда Михайловна Петрова
«Опалённые войной». Вернись живой, книга первая
Глава 6.
В начале сорок четвёртого, сразу после Нового года, слёг в постель Кузьма Гаврилович. Старенькая врач, сама с трудом переставляющая ноги, сказала Миле, что «больной умирает от истощения, нужно питание и витамины». После ухода врача Мила в ужасе зарыдала, обняв сухонькое тело Кузьмы Гавриловича.
– Тихо, дочка, не плачь, Вика совсем стала слабенькой от недоедания, услышит твой плач и напугается, – попросил Кузьма Гаврилович, – лучше мы с тобой вот что сделаем … Видно этим не спасти внучку, что я крохи ей добавляю. Ничего, Степанида не рассердится, она бы и сама так же поступила, – с придыханием говорил Кузьма Гаврилович, вытирая дрожащей рукой глаза.
И Кузьма Гаврилович дал Миле кулон для обмена на продукты, в котором была фотография его и его жены с их свадьбы, хранимый им все годы после смерти жены. Он, оказывается, и ослаб совсем оттого, что отдавал все крохи еды «внученьке», так ласково называл Кузьма Гаврилович Вику, давно считая её своей внучкой.
Кулон удалось выменять на продукты. Мила сварила вкусный суп, которого у них не было уже давно. В квартире запахло мясным. После сытного ужина Кузьма Гаврилович предложил перебраться Миле с Викой на время в его квартиру, квартира теплее, Вику не надо утром будить нести к нему, пусть внучка спит, присмотреть за ней он сможет и сейчас, девочка послушная, понятливая не по возрасту.
– Вот так, дочка, нам надо сделать, так будет со всех сторон лучше, – заключил Кузьма Гаврилович, запыхавшись и от волнения и от такой длинной по его здоровью речи.
И Мила с Викой, и Кузьма Гаврилович стали жить в его квартире одной семьёй. Мила готовила еду на другой день для них, а Кузьма Гаврилович оставался с Викой вдвоём, передвигаясь в квартире по стеночке и опираясь на палочку. Вика шла рядом, так они дружно ели, играли, спали, до прихода Милы.
Когда в последних числах января в сводках объявили конец блокады Ленинграда, Кузьма Гаврилович, радостно улыбаясь пришедшей с работы Миле – вот, дочка, гонит наш народ извергов, гонит, встал с кровати на ноги, не опираясь о стену, пошатываясь, дошёл до окна и с того дня пошёл на поправку. Из Анапы пришло уже несколько писем …
Встав с постели на свои ноги, Кузьма Гаврилович решил «произвести ревизию» в своей квартире и стал просматривать все свои шкафы, сундуки, чемоданы …
И всё, что было хоть немного ценное в это время, аккуратно складывал в одно место, а вечером показывал Миле – можно или нет выменять это на продукты. Однажды Кузьма Гаврилович раскопал из потаённых уголков горжетку. Моль её не тронула, так как она вся была в нафталине и хорошо завёрнута.
– Степанида не любила её и всего один раз надела, а потом и вовсе упаковала, – рассказывал вечером Кузьма Гаврилович Миле. – Вот, и пригодилась, может даже Викусеньке, внученьке моей, сладенького чего удастся раздобыть …
Горжетка была красивая, дорогая и совсем новая. В первый же выходной Мила пошла на рынок. День выдался морозный, ветреный, Мила закуталась в платок и от холода, да и чтоб знакомые меньше узнавали и не докучали расспросами. Подходили покупатели, но Мила не спешила с обменом, понимая, что такую дорогую красивую вещь можно обменять на хорошие продукты. Прошёл мимо мужчина в дорогом пальто, бобриковой шапке, но потом приостановился, посмотрел в пол-оборота на горжетку и вернулся. Мила обрадовалась, такие абы чем не расплачиваются. Мила сразу перечислила дефицитные продукты.
– А деньгами? – спросил мужчина.
Но Мила знала, что и с деньгами ей не достать тех продуктов, которые сейчас им всем так нужны и отрицательно замотала головой – нет.
– Ладно, называйте цену, – сказал мужчина.
Милу дома ждали Вика и Кузьма Гаврилович, без преувеличений их жизнь зависела от того, что она выменяет на рынке вот за эту горжетку. Мила назвала, что ей надо. Затем они пошли к машине и мужчина, приоткрыв дверцу, позвал:
– Софочка, взгляни.
– Ну что ты нашел на этой барахолке?! – раздался из машины капризный голос.
Мила, услышав имя, а затем голос, вздрогнула и быстро подняла платок выше к глазам, закрыв себе всё лицо.
Из машины показалась меховая кокетливая шапочка, а затем и её обладательница. Поторговавшись с Милой, которую Софья не узнала в закутанной по самые глаза и говорившей глухо через платок, Софья, выговаривая капризно в растяжку каждое слово, согласилась взять горжетку. Мужчина расплатился, переложив из машины договорное количество продуктов в сумку Милы.
Кузьма Гаврилович окреп и стал снова выходить с Викой во двор на прогулку. Мила теперь могла быть спокойнее и не бежать к квартире через две ступеньки в страхе за Кузьму Гавриловича и Вику, Кузьма Гаврилович опять справлялся сам. И это было очень своевременно, потому что на фабрике приходилось оставаться после смены.
Подходил к концу март сорок четвертого года, наши войска вышли к реке Прут – государственной границе СССР, шёл 1009 день войны. Собрав в себе все силы, Мила ответила на письма из Анапы. Написала и про свою работу. И про карточки, подробно перечислила чего и сколько выдают. Написала про погоду, написала про беженцев, что теперь они вернулись домой, и квартира опять пустая. Написала, что и у них тоже жили беженцы, и тоже уехали к себе домой.
Много написала Мила обо всём и обо всех, но так и не смогла написать про маму.
Глава 7.
Наши войска наступали, партизаны присоединялись к армии.
Мила целую неделю не могла вырваться в военкомат. Может, есть хоть какая-то утешительная весточка. Выбрав минуточку, Мила побежала в военкомат. Знакомого майора не было, вместо него был другой, незнакомый. Об Глухове, отце Милы, известий не было никаких. На вопрос об Андрее Плетнёве, незнакомый работник военкомата, полистав и почитав бумаги на столе, строго спросил, кем она приходится Андрею Плетнёву. У Милы ёкнуло сердце и сильно заколотилось от страха перед неизвестностью, – что случилось, почему он так пристально смотрит на неё. Зашёл работник военкомата, знавший Милу по её многочисленным посещениям, приветливо поздоровавшись, добавил:
– Что-то Вас давненько не видно было, – и распорядился, – Климов, посмотри, что там по родным Глуховой.
И Мила узнала, что нашёлся Андрей, Андрей Плетнёв. Он, действительно был в партизанах. Раненый и контуженный, долго был без сознания, а затем долго восстанавливалась память. При наступлении наших войск, Андрея забрали в госпиталь, как безвестного партизана, со слов его спасителя. И только недавно к Андрею вернулась память, он смог назвать своё имя, фамилию, стали устанавливать кто и откуда. Установив, послали извещение жене, Плетнёвой Софье Макаровне.
– Что с ним, почему – извещение, какое – извещение? – бледнея всё больше, спросила Мила, а в голове звенело – но он жив, жив! Андрей, жив, жив, жив ….
Не раздумывая, как примет её Софья, Мила поспешила к ней и хоть и была здесь всего один раз, но улицу и дом нашла быстро.
Мила позвонила в уже знакомый звонок на железных массивных воротах, из глубины двора донесся собачий лай. Звонить пришлось долго. В конце-концов с той стороны ворот послышался знакомый голос – кто там?
Мила окликнула:
– Софья, это я.
Открылась калитка и прозвучала команда:
– Заходи скорее!
Мила вошла, Софья быстро захлопнула калитку, щёлкнул замок.
Вошли в дом. Мила огляделась, они были только вдвоём.
– Не оглядывайся, – сказала Софья, – Мы одни сейчас.
Софья села сама и кивнула Миле – садись. Не дожидаясь расспросов Милы, Софья продолжила разговор, понимая, что привело Милу к ней.
– Не поехала, потому что Андрея уже везёт медсестра. Встречу на вокзале. Хорошо, что ты пришла, я сама к тебе собиралась, поговорить надо. Трофима моего судят за хищение, может быть высшая мера, но могут и на фронт. Повезло, что не регистрирована с ним. Дом этот я сразу заявила, на меня покупаем, ну и один из суда помог – я не причём. Это я тебе так, для информации. Лима нашла себя в вино-водочных напитках, у нас с ней теперь у каждой своя жизнь, стали такими чужими, чужее не бывает. Викуся померла.
Мила поняла, что Софья не собирается разыскивать ребёнка, значит, за Вику можно быть спокойной. А Софья холодно продолжала:
– Я уверена, что ты со мной согласишься, ни к чему калеке знать эти подробности, про Трофима, про Вику.
Мила молчала. Софья размеренно продолжала говорить, как гвозди вбивала в крышку гроба Андрея:
– Привезу его сюда, здесь всё огорожено, сможет и во двор выходить. – Софья дёрнула плечами, скривила рот, – Если захочет. Ну вот, так – всё.
Мила глухо сказала:
– Надо попытаться, может хоть частично …
Софья взорвалась:
– Что «частично»?! Что «частично»?! Слепой он! Что выдумывать?! И… ты… тоже не мельтеши, ни к чему ему все эти тени прошлого, мне и так с ним не сладко будет, – сделав паузу, резко закончила. – Прощай, в общем, сама понимаешь, вам тут охи ахи, а мне с ним мучиться.
Софья чуть ли не вытолкнула Милу со двора и поспешно захлопнула за ней калитку.
А дома Милу ждала великая радость – нашёлся отец! Кузьма Гаврилович, гуляя с Викой во дворе, встретил почтальона. Вика уже спала. Вдвоём с Кузьмой Гавриловичем они перечитывали и перечитывали письмо. Отец жив, он тоже был в партизанах, они вместе с отступающими гитлеровцами двигались к границе, нанося ощутимый урон отступающей армии врага изнутри. И вот их отряд полностью присоединился к наступающим частям нашей армии и теперь он будет регулярно писать. У Милы сжалось сердце от горя, как она напишет, что мамы больше нет.
Отец и мать Милы поженились совсем юные, ещё до его армии, они всё время так любили друг друга, неизвестность про мужа и подтачивала здоровье Нины Павловны. Мила до мелочей помнила день ухода отца на войну. На маму Миле было страшно смотреть. Нет, Нина Павловна не голосила, не причитала, но лицо у неё покрылось мертвенной сизой бледностью, даже руки были такие, и мама прятала их за спину, чтоб не видели, как они дрожат. И не плакала мама, но глаза у неё стали, как стеклянные, страшные, неживые. И голос стал не её, безжизненный, которым она повторяла: «Любой, слышишь, любой, но живой вернись, слышишь». И снова: «Любой, слышишь, любой, вернись живой». А теперь как она напишет отцу, что мамы нет. И Мила поняла, что не сможет об этом написать отцу, не сможет. «Папочка, прости меня, что я не смогла сберечь маму, прости меня, родной, я не могу тебе написать о том, что мамы больше нет, не могу», – проплакала всю ночь Мила. Так и пошла на работу, с опухшим от слёз лицом, и рада, что нашелся отец живой, и с новой остротой переживая потерю матери, страшась за отца, что он не сможет пережить такую утрату. Мила знала историю их любви, мать с отцом полюбили друг друга ещё в школе, с пятого класса. В тот год дедушка Павел с бабушкой Полей получили квартиру и переехали в другой район. И мама Милы пошла в другую школу, в ту, где с первого класса учился Вадим, будущий папа Милы. Бабушка Поля рассказывала Миле, как в тот же день Ниночка пришла из школы домой с мальчиком и сказала: «Мама, это Вадим, мы с ним решили дружить всю жизнь». Тогда это было весело слушать. А теперь война и мамы нет.
Глава 8.
Перовое письмо от дочери Вадим Васильевич получил перед атакой, быстро просмотрев, запрятал во внутренний карман, чтоб не выпало. Подошёл товарищ по партизанскому отряду, Лёнька, так он назвал себя, придя в отряд, он и сам в партизанском отряде всех звал просто по имени вплоть до командира партизанского отряда. Никому в партизанах не выкал. Было ему лет тридцать. Но и Вадим Васильевич и все в отряде скоро поняли, что отряд пополнился не простым бойцом. То ли Лёнька был самоучка, любитель всяких химических придумок, то ли молодой учёный, он никому о себе не рассказывал. Но с появлением Лёньки отпала острая необходимость в противотанковых и других минах. Лёнькины, изготовленные им самим, «мины» оказались на порядок мощнее. Ничем больше Лёнька не отличался от других партизан, вот разве что своеобразным «марш-броском», как партизаны назвали Лёнькину незамысловатую песню. Лёнька начинал петь свою песню перед каждым боем партизан с гитлеровцами. И чем опаснее было задание, тем задушевнее звучал голос Лёньки, напевая:
Жила в нашем доме
Девчонка …
Девчонка …
Девчонка на скрипке
Любила играть …
И я слушал скрипку,
Скрывая улыбку …
Девчонка …
Девчонка …
Совсем не умела играть …
Но как было б кстати,
Чтоб в ситцевом платье
Играла девчонка
На скрипке опять …
Играла девчонка,
Девчонка,
Девчонка,
Играла девчонка …
Играла девчонка,
Девчонка,
Девчонка,
Играла девчонка …
И партизаны уже знали, что Лёнька проберётся через все посты, уничтожит всех вражеских часовых на его пути, заложит взрывчатку и всё взлетит на воздух. Эта Лёнькина песня о девчонке, не умевшей играть на скрипке, была, как сигнал к смертельной беспощадной схватке с гитлеровцами. Отступали фашисты, с ними двигался и отряд. Лёнька уничтожал все пути отступления гитлеровским частям, он не упускал из виду ни одной тропинки, моста, брода …
Там, где базировался небольшой отряд партизан, в котором был Лёнька, земля взрывалась и горела под ногами фашистов, куда бы они не повернули и не направили своё отступление. Когда и сколько Лёнька спал, было загадкой для Вадима Васильевича, потому что Лёньку всегда можно было увидеть за изготовлением его хитрых «мин», на которые шло мало взрывчатки, но результат был поразительный. Лёнька, в только ему известных пропорциях, смешивал, распределял, начинял свои «мины», которые раздавал лучшим минёрам в партизанском отряде с устной инструкцией – как пользоваться такой «миной». Последние четыре строчки своей песни Лёнька пел и под грохот взрываемых партизанами мостов, складов, железнодорожных полотен …
И кто был рядом с Лёнькой, слышал под грохот взрывов, треск пулемётов, Лёнька пел: «Играла девчонка, / Девчонка, / Девчонка, / Играла девчонка …», но только уже не задушевно, а жестко, обрывисто.
Первое письмо насторожило Вадима Васильевича, и он с нетерпением ждал следующих писем. Привезли почту. Почтальон стал называть фамилии, Вадим Васильевич услышал «Глухов!». Взяв письмо, он взглянул на конверт. Нет, подчерк опять был дочери. Он отошёл в сторону, подальше от всех, открыл конверт, стал поспешно читать с надеждой, что в предыдущем письме Мила просто не упомянула о Нине, забыла, волновалась, по рассеянности, множество вариантов мелькали в голове Вадима, пока он торопливо читал исписанный подчерком дочери тетрадный листок. Вот и последние строчки с наказом – беречь себя, как только можно и «папочка, любой, слышишь, любой, но живой, возвращайся домой …».
О матери Мила опять не писала ничего, а повторённые дочерью прощальные слова жены перед его уходом на фронт обдали сердце Вадима Васильевича могильной жутью, от самой же Нины писем так и нет. Это может быть только в одном случае …
У Вадима Васильевича от страшной мысли онемел позвоночник, нечем стало дышать, он осел на корточки, затем, скрючившись, повалился на землю, через стиснутые до боли скулы рвался жуткий крик: «Нина! Нина! Нинаааа».
Кто-то взял его за плечо и сильно сжал, затем потряс. Сильная рука потянула плечо к себе – вставай. Вадим Васильевич повернул лицо к тормошащему его, над ним склонился Лёнька, в бригаде все сапёры стали звать его по имени отчеству, Лён Лёныч, за превосходное знание сапёрного дела. Лёнька приказным тоном потребовал:
– Вставай, Вадим, поговорим о наших бедах, иначе мозги могут не выдержать, – Лёнька протянул фляжку. – На, глотни, для случая сберегал.
Вадим Васильевич машинально взял фляжку и так же машинально глотнул из неё. От неожиданности перехватило дыхание, во фляжке был чистый спирт.
– Ещё хлебни, – сказал Лёнька. Вадим Васильевич опять машинально отпил из фляжки. Лёнька взял фляжку у Вадима Васильевича, тоже отпил, закрутил, сел рядом и начал первый о том, что терзало его, жгло сердце, лишало сна с 18 июля 1941 года.
– Я ленинградец, родился и жили там, отец, сестрёнка и я. Растили Злату мы с отцом. Когда родилась Злата, я в этом году уже поступил в институт. Кроме меня в семье детей не было, и мы все с радостью ожидали прибавления нашего семейства. Мама умерла при родах. С лекций я спешил домой. Мы с отцом боялись, что не сумеем сберечь этот крошечный комочек жизни. Только когда Злате исполнился год, немного раздохнулись, появилась уверенность, что сможем вырастить вдвоём. Здоровья Злата была не крепкого, но какими-то серьёзными инфекциями не болела. С отцом у нас было чётко: «Злата, у отца работа, у меня учёба». Всё. В первый класс мы повели Злату вдвоём. И вот вошло ей в голову, что она должна быть скрипачкой. Что послужило этому страстному её желанию, она не говорила, но настояла на своём. И мы с отцом определили её в музыкальную школу. А там стали хаять Злату, заявлять нам, что у девочки «не развит музыкальный слух». Как его «развивать»? Узнала и Злата, что про неё так говорят. И стала самостоятельно «развивать» в себе этот «музыкальный» слух. В общем, всё-таки перевели Злату во второй класс, скорее всего из-за её упорства. Представляешь, вот такая махонькая худенькая сестрёнка целыми часами пиликает на скрипке. Все дети во дворе играют, смех, галдёж, а у нас из окон – ли, ли, ли … Прямо выговаривает скрипка – ли, ли, ли … Соседи через стенку посменно работали, сначала в стенку стучали, выговаривали, потом то ли притерпелись, то ли стенку чем обклеили. А Злату во дворе стали звать, Лили. А так, как все же они учились в одной школе, и там стали звать Злату – Лили.
И так пять лет, ли, ли, ли …
А сама скрипачка из Златы превратилась в твёрдую Лили. Мало того, что и нам с отцом распорядилась, чтоб звали её Лили, так ещё и на чехле вышила стёжками вензель «Лили».
К одиннадцати годам Злата – Лили вытянулась, стала длинноногой худышкой. Я же уже тоже работал, денег хватало, но никакое «усиленное» питание не делало сестрёнку хоть немного справнее, вот, худая, длинноногая, но, несмотря на худобу, окрепла, уже не стала так часто простужаться, и ещё упорнее занималась на скрипке. По общеобразовательным предметам у сестрёнки тоже всё было нормально. Мы с отцом нарадоваться не могли, какую замечательную дочь и сестру вырастили вдвоём.
Лёнька замолчал и, отхлебнув из фляжки, протянул Вадиму Васильевичу, тот всё так же машинально взял её, сделал один глоток, отдал фляжку Лёньке. Лёнька отпил ещё глоток, встал, походил туда-сюда перед Вадимом Васильевичем, встал к нему спиной и звенящим голосом проговорил:
– А потом вот эта война …
Вадим Васильевич до этого безучастно сидевший и даже толком не понимающий, о чём это и зачем рассказывает сейчас что-то Лёнька, теперь тоже встал, взял у Лёньки фляжку, открутил, быстро хлебнул сам и вложил в руку Лёньки – пей. Лёнька сделал несколько глотков, закашлялся. Вадим Васильевич взял из его руки фляжку, обнял Лёньку и крепко прижал к себе, так они стояли с минуту, Лёнька глухо кашлял. Вадим Васильевич уже понял, что с девочкой случилось что-то страшное. И Лёнька стал рассказывать, что произошло в сорок первом году, 18 июля, на станции Лычково Новгородской области. То, что рассказывал Лёнька, не поддавалось осмыслению, это был такой ужас, что мозг отказывался воспринимать за реальность.
18 июля санитарный поезд с ранеными бойцами, в числе которых был и Лёнька, во второй половине дня прибыл на станцию Лычково …
Первые взрывы начались неожиданно без объявления воздушной тревоги. И в основном снаряды поражали состав, в котором везли детей, он стоял параллельно их санитарному составу. Как потом Лёнька узнал, состав состоял из 12 вагонов с детьми и сопровождающим детей персоналом. Снаряды, пронзали стены вагонов, летели щепки и вместе с ними части разорванных тел …
Появившиеся новые фашистские бомбардировщики сбрасывали на вагоны и бомбы и обстреливали из пулемётов. Лёньку дополнительно ранило осколком при первом обстреле. Оторвав от белья и перетянув новую рану, Лёнька выбрался из санитарного вагона. Рельсы были покорёжены от взрывов бомб. Всюду были части детских тел. Он не мог принять за реальность то, что увидал …
Всё было так ужасно, что у него, уже «обстрелянного солдата», свело спазмами живот и открылась рвота. Немного придя в себя, Лёнька, опираясь на кусок доски, отщепленной от вагона, присоединился к другим, оставшимся в живых. Это было невыносимо, это было жутко, но решено было собрать части тел, среди которых в основном были все детские.
Раненых солдат перевезли в госпиталь. Когда восстановилась связь, Лёнька позвонил отцу, с которым у него не было связи с отправки его с поля боя в полевой лазарет. Не дозвонился. Дозвонился до соседей. Они сказали, что его отец уехал на станцию Лычково, где фашисты с воздуха напали на состав с детьми. «Злата! Отец отправил её из Ленинграда?! И Злата была в одном из вагонов того состава?! Что с сестрёнкой?!». Лёнька ушёл из госпиталя и поехал на станцию. Там они и встретились с отцом. В одном из вагонов с детьми была Злата. Отец обезумел и никак не соглашался уезжать со станции, твердил, что Лили где-то спряталась недалеко, и они её непременно дождутся. Так они пробыли там несколько дней. Смог Лёнька увести отца со станции только в лес, уговорив его, поискать Злату там. На отца было страшно смотреть в его безумии, Лёнька опасался, что не выдержит сердце у отца, если Лёнька не даст ему возможности делать то, что его поддерживает – искать Злату. В лесу отец немного стал приходить в себя, но кругом уже были фашисты. Лёнька решил найти партизанский отряд и уничтожать фашистов изнутри, чтоб ни один из них не ушёл безнаказанный. Взрывать их, чтоб земля горела у фашистов под ногами! Вот так он оказался в партизанском отряде. Больше всего он страшится попасть в плен к фашистам, видеть их и не иметь возможности действовать. Об отце Лёнька сам ничего больше не говорил, а Вадим Васильевич поостерёгся спрашивать, не разбередить бы вопросом то, что пока не трогает сам Лёнька. Закончив свой короткий рассказ, Лёнька замолчал, вопросительно глядя на друга.
И теперь Вадим Васильевич рассказал Лёньке о себе. Выслушав Вадима Васильевича и прочитав письмо от Милы, Лёнька сказал, что Вадим должен поддержать дочь хотя бы тем, что больше не спрашивать её, ведь понятно, что произошло что-то непоправимое, раз дочь не в силах об этом ему написать.
– Мила боится за тебя, боится потерять и тебя. Напиши дочке так, чтоб она поняла, что тебе всё ясно, но ты живой и продолжаешь громить фашистов! Нам умирать, Вадим, нельзя, фашисты нам очень задолжали и этот должок мы с тобой с них будем брать, – Лёнька сделал глоток из фляжки, передал её Вадиму Васильевичу, завершил:
– Вот так, Вадим, по-другому нельзя.