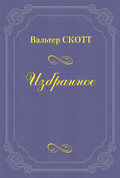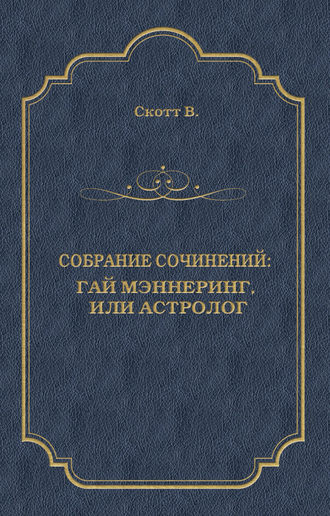
Вальтер Скотт
Гай Мэннеринг, или Астролог
– Ладно, ладно, Джок, – примирительным тоном ответил Скрей, – твой рассказ ничем особенно не отличается от моего, я просто не знал, что ты видел этого человека. Так вот, знайте, друзья мои, звездочет этот сказал, что ребенку грозит несчастье, и тогда отец взял к себе в дом ученого богослова, чтобы тот день и ночь неотлучно при мальчике находился.
– Ах, да, его звали Домини Сэмсон, – сказал кучер.
– Это была какая-то бессловесная тварь, – заметил Берклиф. – Мне говорили, что, когда ему пришлось с проповедью выступить, он и двух слов связать не мог.
– Пусть так, – сказал регент, махнув рукой в знак того, что возвращается к прерванному рассказу, – но он денно и нощно был при маленьком лэрде. И вот, когда мальчику было уже лет пять, вышло так, что лэрд понял свою ошибку и решил изгнать цыган из своих владений. Он приказал им убираться вон и послал тогда Фрэнка Кеннеди их выгонять. Тот с ними грубо обошелся, и ругал их, и проклинал, а они ему тем же отвечали. И тогда эта самая Мег Меррилиз, которая больше всех с дьяволом якшалась, ясно сказала, что и трех дней не пройдет, как Фрэнк ей душой и телом за все заплатит. Я это все доподлинно знаю – мне сам Джон Уилсон, что конюхом у лэрда служил, сказывал, что, когда лэрд домой из Синглсайда ехал, Мег взошла на гору Гибби и грозилась оттуда всю его семью погубить. Уж была ли это вправду Мег или привидение какое, этого Джон сказать не мог, только такого роста и людей-то не бывает.
– Что же, – сказал кучер, – может быть, это и так, я-то этого и знать не знаю, меня в то время здесь не было. Только ведь Джон Уилсон хвастунишка был большой, да и трус к тому же.
– Так чем же все это кончилось? – спросил незнакомец, и в голосе его послышалось нетерпение.
– Ну вот, дело кончилось тем, – сказал регент, – что в то время, когда все глядели, как королевский корвет за контрабандистами гонится, этот самый Кеннеди, неизвестно зачем, сразу вдруг сорвался с места – тут его никакая бы сила не удержала – и поскакал во весь опор в Уорохский лес. На пути он повстречал маленького лэрда – тот с наставником своим гулял, – схватил ребенка и поклялся, что если на него напустят чары, то и ребенок с ним пропадет; воспитатель бежал за ним что было мочи и почти что не отставал от них, потому что бегал он очень, прытко, и вдруг он видит: Мег, цыганка, или дьявол в ее образе, выскакивает из-под земли и вырывает ребенка из рук Кеннеди. Тогда тот разъярился и шпагу выхватил. Нечестивцам ведь и сам дьявол не страшен.
– Да, это истинная правда, – сказал Джок.
– Ну так вот, она схватила его и сбросила как камень вниз со скалы на Уорохском мысу. Под этой скалой его в тот же вечер и нашли, но что случилось с малюткой, этого я, по правде говоря, не знаю, только священник, что у нас тогда был (сейчас ему получше место дали), думает, что ребенка просто увезли на время в страну фей.
В некоторых местах этого рассказа незнакомец слегка улыбался, но, прежде чем он успел что-нибудь сказать в ответ, послышался топот копыт, и развязный, щеголеватый лакей с кокардой на шляпе быстро вошел в кухню, громко говоря: «Потеснитесь немножко, добрые люди». Но стоило ему заметить незнакомца, как он сразу превратился в скромного и учтивого слугу, мгновенно снял шляпу и подал своему хозяину письмо.
– Семья Элленгауэнов в большом горе, сэр, и они не могут никого принять.
– Я это знаю, – ответил его господин. – А теперь, сударыня, раз уж вам не приходится ждать гостей, может быть, вы разрешите мне занять ту комнату, о которой вы говорили?
– Разумеется, сэр, – ответила миссис Мак-Кэндлиш и поспешила посветить гостю с назойливой суетливостью, присущей в таких случаях хозяйкам.
– Послушай-ка, молодчик, – сказал церковный староста лакею, наливая стакан водки, – тебе не худо было бы выпить после такой дороги.
– Верно, сэр, благодарю вас; за ваше здоровье, сэр.
– Но кто же такой твой хозяин?
– Кто тот господин, который только что здесь был? Это знаменитый полковник Мэннеринг, сэр, из Ост-Индии.
– Что, тот, о ком писали в газетах?
– Да, он самый. Он освободил Кудиберн и защищал Чингалор и разбил главного вождя маратхов Рама Джолли{94} Бандлмена, я был с ним почти во всех сражениях.
– Господи боже мой, – вскричала хозяйка, – надо скорее спросить, что он захочет на ужин! А я-то еще принимала его в такой тесноте!
– Эх, полноте, мамаша, ему тут еще лучше. Вам на всем свете не сыскать человека проще, чем наш полковник; впрочем, в нем есть что-то, должно быть, и от самого дьявола.
Разговор, которым закончился этот вечер, мало интересен для нашего читателя, и мы, с его позволения, перейдем теперь в зал.
Глава XII
Людское мненье – глиняный божок,
Людьми же обращенный против Бога.
Не Бог ли запретил кровопролитье?..
А ради славы убиваем мы.
Кто честен, тот не слушает молву
И клеветой не запятнает друга.
Да, тот силен, кто подлости в себе
Страшится, а от чьей-то пострадав –
Страданье стерпит.
Бен Джонсон{95}
Полковник в раздумье ходил взад и вперед по залу, когда заботливая хозяйка снова заглянула туда, чтобы узнать, что ему будет угодно. Заказав себе ужин и стараясь всячески поддержать «интересы ее заведения» своим выбором, он попросил ее на несколько минут остаться с ним.
– Если только я хорошо понял все, что здесь говорили, – сказал он, – то выходит, что Бертрам потерял сына, когда тому исполнилось пять лет.
– Да, сэр, это доподлинно так было, хоть об этом и самые разные толки идут да пересуды, и каждый, у огня сидючи, свое рассказывает, вроде как и мы все сегодня. Но мальчик действительно пропал, когда ему пять годиков минуло, как ваша милость изволили сказать, а леди в то время была в положении, и когда ей об этом проговорились, она, бедная, не выдержала и в ту же ночь преставилась. Да и лэрду с тех пор уж не жизнь была, он на все рукой махнул; правда, когда мисс Люси подросла, она попробовала в доме порядок навести, но только что она могла, бедняжка, сделать? А теперь вот они и без дома и без земли остались.
– Может быть, вы вспомните, какое это было время года, когда мальчик пропал?
Хозяйка подумала немного, что-то припоминая, а потом ответила, что она «хорошо помнит, когда это было», и привела несколько дат, по которым можно было установить, что это было в начале ноября 17… года.
Полковник молча зашагал взад и вперед по комнате, сделав миссис Мак-Кэндлиш знак не уходить.
– Если я верно понял, – сказал он, – имение Элленгауэн продается?
– Какое там продается! Завтра его просто отдадут тому, кто больше заплатит. Боже мой, да что же это я говорю, – не завтра, завтра ведь воскресенье, а в понедельник, в первый будний день. И мебель вся, и все домашние вещи туда же пойдут. У нас тут все думают, что просто стыдно сейчас с продажей спешить, когда в Шотландии из-за этой проклятой американской войны{96} ни у кого денег нет, и кое-кто на этом деле поживится. Черти проклятые, прости господи! – негодующе воскликнула добрая женщина, которая никак не могла примириться с этой вопиющей несправедливостью.
– А где же состоятся торги?
– Да прямо на месте, так и в объявлении сказано – стало быть, в самом замке Элленгауэн.
– А у кого же все документы, приходо-расходные книги и планы?
– У очень порядочного человека, сэр, у помощника шерифа графства. Он на это судом уполномочен. Может быть, вашей милости угодно будет его повидать, так он как раз сейчас здесь; да он вам и о пропаже мальчика потолковее, чем кто другой, расскажет, потому как я слыхала, сам шериф, его прямой начальник, в свое время как следует над этим делом потрудился.
– А как его зовут?
– Мак-Морлан, сэр; это человек достойный, его все хвалят.
– Пошлите сказать ему, что полковник Мэннеринг ему кланяется и приглашает к себе поужинать, и пусть он все эти бумаги с собой захватит. Только, пожалуйста, сударыня, никому об этом ни слова не говорите.
– Чтоб я сказала, да ни за что на свете! Мне и самой бы хотелось, чтобы земля вашей милости досталась (тут она сделала ему реверанс) или другому какому-нибудь джентльмену, который, как и вы, за свою страну воевал (еще один реверанс), если уж старым владельцам эти места покинуть придется (тут она вздохнула); только бы не досталась она этому подлому мошеннику Глоссину, который на несчастье ближнего богатство себе сколотить хочет. Ну а теперь я, пожалуй, оденусь, обуюсь да схожу к мистеру Мак-Морлану, он сейчас дома, а это отсюда рукой подать.
– Пожалуйста, сходите, хозяюшка, я буду вам очень благодарен, да скажите моему слуге, чтобы он мне портфель сюда принес.
Через несколько мгновений полковник Мэннеринг уже спокойно сидел за столом, разложив на нем свои бумаги. Пока он пишет, мы имеем возможность заглянуть ему через плечо и охотно поделимся с нашим читателем тем, что мы прочли. Письмо было адресовано: Уэстморленд, Ландбрейтвейт, Мервинхолл, Артуру Мервину, эсквайру. Полковник описывал в нем свое путешествие, после того как они расстались, а потом продолжал так:
«Станешь ли ты, Мервин, и теперь еще упрекать меня в том, что я поддавался грусти? Неужели ты думаешь, что после всех сражений, плена и других ударов судьбы, которые постигли меня за эти двадцать пять лет, я могу быть по-прежнему тем веселым и беззаботным Гаем Мэннерингом, который карабкался с тобою на вершину Скиддо и охотился на Кросфеле? И если ты, который все это время был счастлив, окружен семьей и совсем почти не изменился, если ты легко шагаешь по жизни и такими ясными глазами глядишь в будущее, то все это оттого, что здоровье и нераздельно с ним связанный спокойный характер счастливо сочетались у тебя с ровным и безмятежным течением жизни. А на моем жизненном пути были одни только трудности, колебания и ошибки. С самого детства я стал игрушкой в руках случая, и, хотя ветром меня и часто относило в тихую гавань, это редко бывала та гавань, к которой стремился сам кормчий. Позволь же мне напомнить тебе хотя бы в нескольких словах, как нелепо и странно сложилась моя юность и сколько горя мне пришлось испытать потом, уже в зрелые годы.
Ты скажешь мне, что в начале моей жизни ничего плохого со мной не произошло. Хорошего, правда, было тоже мало, но как-никак все было вполне сносно. Отец мой, старший представитель древнего, но обедневшего рода, умирая, оставил меня почти ни с чем, если не считать своего благородного имени, и доверил меня попечению своих более удачливых братьев. Они так меня любили, что готовы были ссориться из-за меня. Мой дядя-епископ хотел сделать из меня священника и предлагал мне приход; другой дядя, который был купцом, хотел засадить меня в контору, собираясь в дальнейшем сделать меня участником фирмы «Мэннеринг и Маршал» на Ломбард-стрит{97}. Так вот, очутившись между двух стульев, или, пожалуй, двух мягких, богатых и удобных кресел – креслом богословия и креслом коммерции, я не сумел усидеть ни на одном из них, и кончилось тем, что я скатился на драгунское седло. Но это не все: епископ хотел женить меня на своей племяннице и наследнице линкольнского декана{98}, дядя-коммерсант, близко знавший крупного виноторговца старика Слотерна, который мог мойдоры{99} мешками считать и разжигать трубку банковыми билетами, прочил меня себе в зятья, а я вот ухитрился выскочить из той и другой петли и женился на бедной-пребедной девушке, Софии Уэлвуд.
Ты, верно, скажешь, что военная карьера в Индии, куда я отправился со своим полком, меня удовлетворяла. Да, так оно и было на самом деле. Ты напомнишь мне и о том, что, если я и не оправдал ожидания моих опекунов, я, однако, нимало не навлек на себя их недовольства и что епископ, умирая, завещал мне свое благословение, свои рукописные проповеди и весьма примечательный портфель с портретами знаменитейших богословов английской церкви, а другой дядя, сэр Пол Мэннеринг, оставил мне все свое огромное состояние. Но все это ничего не значит; на душе у меня лежит тяжелый камень, и тяжесть эту я, должно быть, унесу с собою в могилу; эта горечь отравляет мне всю жизнь. Сейчас я расскажу об этом подробнее. Когда я был у тебя в гостях, у меня не хватило мужества рассказать тебе все до конца. Вообще ты, наверно, слышал об этом уже много раз, и, может быть, даже с некоторыми подробностями, далеко не всегда, впрочем, верными. Поэтому я сейчас не стану ничего замалчивать, с тем чтобы потом нам никогда уже не возвращаться ни к самому событию, ни к тому чувству безысходной грусти, которое оно оставило во мне.
Ты ведь знаешь, что София поехала со мной в Индию. Она была так же невинна, как и весела, но несчастье нам принесло именно то, что она была так же весела, как невинна. А на мой характер повлияли заброшенные мною потом занятия наукой и привычка к длительному уединению; все это не слишком подходило к моей новой должности командира полка в стране, где все полны гостеприимства и где каждый обязан стать радушным хозяином, если хочет, чтобы его считали джентльменом. Однажды, в тяжелый для нас период (ты знаешь, как порою бывало трудно набирать в армию европейцев), некий молодой человек по имени Браун, поступивший волонтером в наш полк, решил, что военная деятельность ему более по сердцу, чем торговля, которой он занимался прежде, и остался служить в полку. Надо отдать должное моей несчастной жертве – поведением своим он каждый раз являл образцы благородства, и первая офицерская вакансия по праву, конечно, должна была принадлежать ему. Я уезжал на несколько недель в дальнюю экспедицию. Вернувшись, я увидел, что этот молодой человек принят в моем доме и стал постоянным спутником моей жены и дочери в их прогулках. Мне это по многим причинам не нравилось, хоть и манеры его и поведение были совершенно безупречны. По правде говоря, я, пожалуй, и примирился бы с тем, что он так запросто бывал в моей семье, если бы в дело не вмешалось другое лицо. Если ты перечтешь «Отелло», пьесу, которую мне теперь страшно взять в руки, ты поймешь, что было дальше, поймешь, какие чувства овладели мной; поступки мои, слава богу, были не столь ужасны. У нас в полку был еще один претендент на офицерскую должность. Он-то и обратил мое внимание на то, что моя жена, как он выразился, кокетничала с этим молодым человеком. Честь Софии ничем не была запятнана, но она была горда, и ревность моя настолько ее задела, что она стала еще настойчивее приглашать его в наш дом, отлично зная, как я неодобрительно к нему отношусь. У нас с Брауном была какая-то скрытая неприязнь друг к другу. Раз или два он сделал попытку преодолеть мое предвзятое отношение к нему, но я был настолько против него предубежден, что приписал это совсем другим намерениям. Чувствуя, что его отталкивают и даже презирают, он перестал добиваться моего расположения, а так как у него не было ни семьи, ни друзей, он, естественно, обращал особое внимание на то, как вел себя человек, у которого было и то и другое.
Ты не можешь себе представить, какая для меня пытка писать тебе это письмо, и, несмотря на это, мне хочется отдалить конец моего рассказа, как будто этим я могу оттянуть катастрофу, последствия которой отравили всю мою жизнь. Но сказать о ней надо, и я буду краток.
Жена моя, хоть она была не очень уже молода, была еще очень хороша собой. И, добавлю в свое оправдание, ей хотелось нравиться, об этом я тебе уже говорил. В ее верности, однако, у меня никогда никаких сомнений не было. Но своими хитрыми намеками Арчер вселил в меня убеждение, что она мало бережет мой душевный покой и что этот молодой человек, Браун, ухаживает за ней, нисколько не считаясь со мной и даже назло мне. Он же, со своей стороны, может быть, считал меня деспотичным аристократом, который пользуется своим положением в армии и в свете, чтобы издеваться над тем, кто оказался у него в подчинении. И, если он заметил мою нелепую ревность, он, вероятно, намеренно растравлял эту рану, считая, что этим может отомстить мне за мелкие обиды, которые я не раз ему наносил. Но один из моих друзей, человек проницательный, дал другое толкование его поступкам, в свете которого они выглядели более невинными и, во всяком случае, менее для меня оскорбительными. Он считал, что внимание Брауна в действительности относилось к моей дочери Джулии, а если и распространялось на мою жену, то только с целью добиться ее покровительства. Такого рода его намерения отнюдь не льстили моему самолюбию и не могли мне нравиться, так как исходили от человека без имени и состояния, но, конечно, безрассудная страсть к моей дочери не могла так глубоко оскорбить меня, как оскорбляло это ужасное подозрение.
Там, где скопилось много горючего, достаточно бывает одной искорки, чтобы все вспыхнуло. Я начисто забыл, что именно послужило поводом к нашей ссоре, но все началось за карточным столом из-за сущего пустяка; кончилось же это взаимными оскорблениями и вызовом на дуэль. На следующее утро мы встретились по другую сторону крепостного вала, на самой границе расположения полка, которым я командовал. Все было устроено так, чтобы Браун, если он выйдет победителем, мог спастись бегством. Теперь я, кажется, даже хотел бы, чтобы это случилось именно так, хоть и ценой моей гибели. Но от первой же пули Браун упал. Мы все кинулись, чтобы оказать ему помощь, как вдруг на нас напали лутии{100}, местные разбойники, не упускающие случая подстеречь добычу. Арчер и я едва успели вскочить на лошадей, и после ожесточенной схватки, в которой он получил несколько тяжелых ранений, нам удалось пробиться сквозь их ряды. В довершение всех несчастий этого злополучного дня жена моя, которая догадалась, почему я так рано покинул крепость, отправилась в паланкине вслед за мной. Разбойники напали на нее и чуть было не захватили в плен. Наш конный отряд быстро освободил ее, но само собой разумеется, что события этого утра не могли не отразиться на ее и без того уже подорванном здоровье. Арчер, понимая, что он умирает, признался мне, что некоторые из сообщенных им подробностей он просто выдумал, а другим дал неправильное толкование, чтобы опорочить мою жену. Но ни его признания, ни последовавшее за этим объяснение и примирение с женой не могли остановить ее болезни. Месяцев через восемь она умерла, и все, что у меня осталось, – это дочь, которая сейчас временно находится на попечении доброй миссис Мервин. Джулия тоже тяжко заболела. Состояние ее было таково, что я вынужден был выйти в отставку и вернуться в Европу, где более благоприятный климат и новизна впечатлений вернули ей в конце концов бодрость и восстановили ее силы.
Теперь, когда ты все узнал обо мне, ты не станешь больше доискиваться причин моей грусти и позволишь мне предаваться ей вволю. В том, что я тебе рассказал, достаточно горечи, если не яда, чтобы отравить ту чашу счастья и славы, которую, как ты не раз говорил, мне предстоит испить в эти годы покоя.
Я мог бы добавить к этому еще некоторые обстоятельства, которые наш старый учитель назвал бы предопределением. Ты, пожалуй, посмеялся бы, если бы я рассказал тебе еще некоторые подробности, тем более что ты знаешь, что сам я в это не верю. Приехав в тот дом, откуда я пишу тебе сейчас, я узнал об одном удивительном стечении обстоятельств, о котором, если только оно подтвердится свидетельством надежных людей, нам с тобой будет интересно потолковать. Но пока я об этом умолчу, так как жду к себе одного человека; я должен говорить с ним о покупке поместья, которое сейчас продается в этих краях. Место это мне чрезвычайно нравится, и я надеюсь, что владельцы его будут довольны тем, что куплю его я, так как здесь кое-кто намеревается завладеть им за полцены. Кланяйся от меня миссис Мервин, и я, так и быть, доверю тебе, хоть ты и хочешь еще считаться молодым человеком, поцеловать за меня Джулию.
Прощай, милый Мервин. Преданный тебе
Гай Мэннеринг».
В комнату вошел мистер Мак-Морлан. Имя полковника Мэннеринга было так хорошо известно, что Мак-Морлан, человек порядочный и умный, сразу же решил довериться ему и рассказать обо всем откровенно. Он перечислил все преимущества и все невыгоды покупки.
– Это имение, – сказал он, – во всяком случае, большая часть его, должно перейти к сыну лэрда, а купивший имение имеет право удержать значительную долю его стоимости в случае, если в течение какого-то времени исчезнувший ребенок найдется.
– Почему же тогда так торопятся с торгами? – спросил Мэннеринг.
Мак-Морлан улыбнулся.
– По всей видимости, – сказал он, – для того, чтобы вместо сомнительной ренты с уже разоренного имения можно было получить всю его стоимость; но главная причина, как все полагают, в том, чтобы удовлетворить интересы одного определенного покупателя, который сделался главным кредитором и распоряжается всем, как только ему угодно; он-то, вероятно, и захочет купить имение – ведь платить ему за него ничего почти не придется.
Мэннеринг посоветовался с Мак-Морланом о том, как не допустить, чтобы этот низкий замысел осуществился. Потом они долго обсуждали удивительное исчезновение Гарри Бертрама в тот самый день, когда ему исполнилось пять лет. Исчезновение ребенка именно в этот день подтверждало случайное предсказание Мэннеринга. Однако, как и можно было думать, Мэннеринг о нем не упоминал.
Мистер Мак-Морлан, когда все это случилось, сам в этих местах еще не служил, но он был хорошо знаком со всеми обстоятельствами дела и сказал полковнику, что, если тот действительно думает поселиться в поместье Элленгауэн, он сообщит ему все подробности дела через самого шерифа. На этом они и расстались, довольные друг другом и хорошо проведенным вечером.
В воскресенье полковник Мэннеринг отправился к обедне в приходскую церковь. Из Элленгауэнов в церкви никого не было; прошел слух, что старому лэрду стало хуже. Джок Джейбос, которого снова за ними посылали, вернулся опять один, но мисс Люси Бертрам надеялась, что на следующий день отца ее все же можно будет увезти.