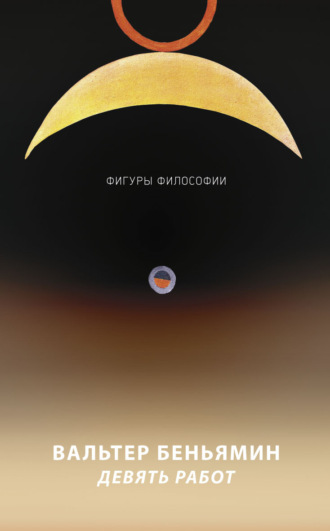
Вальтер Беньямин
Девять работ
Серия «ФИГУРЫ ФИЛОСОФИИ» – это библиотека интеллектуальной литературы, где представлены наиболее значимые мыслители XX–XXI веков, оказавшие колоссальное влияние на различные дискурсы современности.
Книги серии – способ освоиться и сориентироваться в актуальном интеллектуальном пространстве.

© Ромашко С. А., перевод на русский язык, составление, вступительная статья, 2019
© Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2019
«Прошлое, заряженное актуальным настоящим»: о судьбе Вальтера Беньямина
«Мы живем в эпоху социализма, женского движения, коммуникаций, индивидуализма. Не движемся ли мы к эпохе молодежи?» Более ста лет назад юный Вальтер Беньямин этими словами начал одну из первых своих публикаций. Сегодня можно сказать, что он достаточно точно обозначил моменты, сыгравшие в двадцатом веке чрезвычайно важную роль. Не утрачена их значимость и сегодня – а некоторые нюансы ощущаются даже острее. Этот мешковатый близорукий человек со странностями оказался гораздо более зорким и сильным, чем думали тогда о нем многие. Беньямин погиб в 1940 году, когда Европа была охвачена войной; в общем кошмаре не только оценить, но и просто отметить потерю было почти некому. Бертольт Брехт в своих эмигрантских скитаниях узнал о смерти друга лишь спустя почти год и только тогда внес его в свой поэтический поминальный список и написал эпитафию:
Я слышал, ты поднял на себя руку,
Чтобы не дать палачу работы.
Восемь лет в изгнании наблюдая, как крепнет враг,
Ты последней не одолел границы
И земной перешел рубеж…
Будущее объято тьмой, а силы
Добра ослаблены. Ты это понял
И добил свое измученное тело[1].
Попытки издать Беньямина в первые годы после войны оказываются безуспешными, и первый сборник его работ публикуется в ФРГ лишь в середине 50-х годов, а полное собрание сочинений начинает выходить еще позднее, в 70-е годы. Но еще и тогда интерес к его наследию был явлением скорее экзотическим. Мало кто готов был предположить, что пройдет еще некоторое время и Вальтер Беньямин станет не только одним из наиболее обсуждаемых гуманитариев двадцатого века, но и войдет в списки обязательного университетского чтения на разных континентах.
Личность и судьба Вальтера Беньямина кажутся полными противоречий. Вроде бы эгоцентричный и обращенный прежде всего к своим мыслям и ощущениям, он в то же время постоянно оказывался на самых актуальных силовых линиях времени. Стремясь понять современность, уходил в изучение прошлого, да еще и выбирал в качестве предмета довольно странные, на взгляд многих, детали. Увлекся диалектикой, но непременно желал поймать тот момент, когда диалектическое движение застывает, «зависает», словно прыгун на фотографии, что, по мнению Адорно, было идеей довольно нелепой. Был человеком открытым, готовым к общению с самыми разными людьми и знакомству с самими разными предметами, однако при этом категорически отказывался ограничиваться какой-либо одной позицией. Его волновали сущностные вопросы бытия, однако всю жизнь он искал частные, видимые и ощутимые проявления глубинных сил и движений. Добровольно расставаясь с жизнью, Вальтер Беньямин шагнул в вечность, но, чтобы понять его, необходимо войти в тот водоворот истории, в котором он провел свою жизнь.
* * *
Судьба родившегося в состоятельной берлинской семье в 1892 году мальчика представлялась в тот момент ясной и вполне благополучной. Берлин, ставший столицей объединенной Германии, успешно развивался вместе со всей страной, поднимаясь вровень со «старыми» европейскими столицами, Парижем и Лондоном. Неловкий и мечтательный мальчик, похоже, не подходил на роль финансиста, чтобы продолжить отцовское дело, но перед ним открывались другие возможности, например университетская карьера или литературное творчество. Это детство навсегда останется с Беньямином. Связь с ним он будет держать через собирание старых детских книг, коллекционирование игрушек. Сорокалетним он начнет писать небольшую книгу воспоминаний о своих детских годах[2]. Навсегда останется он и сыном большого города, где бы ни доводилось ему временами обитать.
Но история перечеркивает проступающие очертания будущей биографии. И дело не только в конкретных событиях. Начинается настоящий цивилизационный сдвиг, в результате которого берлинский мальчик, став взрослым, оказывается совсем в другом мире. Беньямин сам достаточно ясно обозначил этот разрыв: «Поколение, которое еще ездило в школу на конке, оказалось под открытым небом в краю, где неизменными остались разве что облака, а посреди всего, в энергетическом сплетении разрушительных токов и взрывов, крошечное и беззащитное человеческое тело»[3]. Именно эта беззащитность заставляла его искать убежище в детстве (когда тебя защищают родители), она же заставляла его напряженно работать над пониманием того, как человек может сохранить свое достоинство в этом опасном и непредсказуемом мире. Сказалась ли в этом ощущении подхваченная в психоанализе идея нежелания человека расставаться с материнским телом, или же это было предвосхищение экзистенциалистских рассуждений о заброшенности человека в мир – вероятно и то, и другое. Но Беньямин в любом случае искал свой ответ на самые насущные вопросы бытия.
Правда, и начало взрослой жизни представлялось вполне предсказуемым: в 1912 году Беньямин начинает учебу в университетах Фрайбурга и Берлина. Там у него была возможность слушать известнейших немецких философов, социологов, историков культуры, таких как Эрнст Кассирер, Генрих Риккерт и Георг Зиммель. И все же Беньямин с большим скепсисом относился к своей учебе в университете (как до того к учебе в стандартной школе), полагая, что это «не место, где обретают знания». Он и вообще с ранних лет питал отвращение к административным структурам любого рода. Зато он стал одним из активистов студенческого движения, в особенности дискуссионного клуба в Берлине.
Но это были последние годы накануне появления идеологических и политических разломов, определивших историю Европы на долгие десятилетия. Характерная деталь: в одних аудиториях с Беньямином находился и юный Хайдеггер (свидетельств о каких-либо контактах не обнаружено). Не пройдет и двух десятилетий, как Беньямин с Брехтом станут планировать совместный идейный «разгром» Хайдеггера – до реализации замысла дело, правда, так и не дойдет. Рубежом, разделившим исторические эпохи, стала Первая мировая война.
Сейчас непросто представить себе, каким потрясением она стала для интеллектуалов как наиболее чуткой части общества. Удар был настолько сильным, что некоторые приняли решение уйти из жизни. Этот социальный эксцесс коснулся и Беньямина: через несколько дней после начала войны покончил с собой его близкий друг Фриц Хайнле. Его смерть так и осталась незаживающей раной в душе Беньямина.
Беньямин отходит от общественной деятельности. По счастью, его признают негодным к военной службе (вряд ли он уцелел бы на фронте). Все больше он углубляется в фундаментальные проблемы философии, истории культуры и литературы. Именно в эти беспокойные годы складывается его рабочий метод. Многие заметки и наброски этого времени так и остаются рабочими документами, не опубликованными при жизни. Он не планирует монументальных трудов, напротив, работа идет небольшими текстами эссеистического характера. Так было и в дальнейшем, даже немногие его книги были, в сущности, собранием эссе и фрагментов.
Беньямин работает над проблемами философии языка, размышляет о судьбе и характере, пишет критику насилия. Набрасывает даже программу грядущей философии, которой, впрочем, не очень следовал и сам. И все же многое из написанного тогда в разных формах получило развитие в дальнейшем. Тогда же он обращается и к литературным авторам, которые станут его спутниками на всю жизнь; в первую очередь это Франц Кафка и Шарль Бодлер, переводы из которого он опубликует в 1923 году, предпослав им свое эссе «Задача переводчика».
В эти годы складывается дружба Беньямина с Герхардом (позднее он меняет свое имя на Гершом) Шолемом. Верность этой дружбе они хранили всю жизнь, несмотря на то, что долгие годы были в разлуке. Именно благодаря Шолему до нас дошли многие тексты Беньямина, как и свидетельства о его жизни. Вместе с Шолемом в жизнь Беньямина активно вошла еврейская культурная и религиозная традиция. Дело в том, что семья Беньямина принадлежала к числу берлинских ассимилированных евреев, которых еще называли «евреями, отмечающими Рождество» (в «Берлинском детстве» Беньямина есть очень эмоциональная зарисовка о рождественских днях). Шолем и сам был, в общем-то, из той среды, но активно погружался в иудаизм и еврейскую культуру, проникался идеями возрождения еврейской культуры в Палестине. Он мечтал приобщить друга к своим стремлениям; Беньямин с интересом и симпатией следил за его деятельностью, однако несмотря на все старания Шолема так и не примкнул к нему ни идейно, ни практически. Уже в 1923 году Шолем уезжает в Палестину, и все попытки увлечь Беньямина повторить его путь – даже хотя бы на время – остались безуспешными. До ухода из жизни Беньямин видел друга лишь дважды, когда тот ненадолго приезжал в Европу[4].
В отличие от Шолема Беньямин обращается к идеям мессианизма и утопизма не только через иудейскую мистику, но и через метафизические медитации, а также через переживание катастрофизма событий мировой войны и последовавших за ней революций. В результате появляется текст, который Адорно позднее озаглавил «Теолого-политический фрагмент», а также эссе «Капитализм как религия». Это приближало его к левому движению немецких интеллектуалов, которое тогда только формировалось.
Свое образование Вальтер Беньямин завершает в благополучной мирной Швейцарии, где пишет диссертацию «Понятие художественной критики в немецком романтизме» (1920). Полученное им звание доктора остается единственным академическим титулом на всю жизнь. Но гораздо важнее и обращение к романтизму как предмету изучения, и то, что он впервые в этой работе развернуто высказывается о необходимости понимания произведения искусства не самого по себе, а в процессе его освоения обществом – предвосхищая тем самым и сформировавшуюся во второй половине двадцатого века рецептивную эстетику, и свои собственные исследования более позднего времени, в которых искусство рассматривается как производственный коммуникативный процесс, а произведение искусства – как элемент этого процесса, а тем самым и как особая возможность познавательной деятельности.
В очередной раз исторические события меняют судьбу Беньямина. Он готов был оставаться в Берне, чтобы продолжать академическую карьеру, однако в Германии послевоенная разруха, и жизнь в Швейцарии оказывается слишком дорогой. Приходится возвращаться в Германию и пытаться защитить вторую диссертацию там. Беньямин представляет диссертацию о происхождении немецкой барочной драмы в университет Франкфурта-на-Майне (1925). Работа эта, несмотря на свое заглавие, была вовсе не литературоведческой, а философско-социологической. Беньямин критикует принятое в то время позитивистское понимание историзма как выстраивания последовательности событий, связанных простой причинно-следственной связью (в конце жизни он вернется к этому вопросу, призывая «чесать историю против шерсти»). И продолжает развивать свои мысли о произведении искусства, которое представляется ему своего рода магическим кристаллом, открывающим панорамный взгляд на общество, его породившее.
Франкфуртская профессура отказалась принять работу к защите (похоже, она оказалась неспособной распознать, в чем же состоял замысел Беньямина). На этом университетская жизнь для Беньямина (не слишком-то к ней привязанного) была окончена. Правда, франкфуртские визиты оказались небесполезными: он завязал здесь знакомство с Теодором Адорно и другими молодыми людьми, которые составили в дальнейшем франкфуртскую школу философии и социологии. Так он сделал еще один шаг в сторону левой интеллигенции.
Была и еще причина, по которой неудача во Франкфурте не воспринималась им как катастрофа. В 1924 году Беньямин продолжал работу над диссертацией, находясь несколько месяцев на Капри. Окрестности Неаполя стали в то время прибежищем немецкой интеллигенции. Не требующий больших расходов быт, мягкий климат, доброжелательная атмосфера – все это воспринималось как возможность уйти от проблем на родине, отдохнуть и поработать в сообществе друзей и единомышленников. В этой среде, преимущественно левых настроений, его ждала неожиданная встреча, которая предвещала очередной поворот в его судьбе. Он случайно знакомится с молодой женщиной, которую характеризует в письме Шолему как «большевичку из Риги», «одну из наиболее замечательных женщин, каких я когда-либо знал». Звали эту женщину Анна (Ася) Лацис, она была действительно из Риги, хотя училась уже в Петербурге и Москве. Встреча с ней открыла для Беньямина, по сути, новый мир. Лацис была актрисой и театральным режиссером, за два года пребывания в Германии успела поработать в берлинских театрах, а затем перебралась в Мюнхен, где стала ассистенткой Бертольта Брехта. Не только женское очарование и незаурядная энергия покорили Беньямина. Он ощутил существование совсем не того образа жизни, который был знаком ему прежде. Впрочем, сама Лацис полагала, что он и вообще лишен представления о подлинной реальности.
Чтобы увидеть подлинную реальность, далеких путешествий не потребовалось. Достаточно было перебраться с острова на берег, в расположенный на расстоянии прямой видимости Неаполь, и погрузиться в жизнь на его улицах. Так появился очерк «Неаполь», вышедший в 1925 году под двумя фамилиями, хотя написан он был, судя по всему, Беньямином, а фамилия Лацис присутствовала как знак ее роли в этом начинании. «Неаполь» не просто стал прообразом для очерков о других городах (в том числе о Москве, которую Беньямин назвал «северным Неаполем»), но и вообще моделью, позволяющей через видимые приметы городской жизни проникать в характер городской среды, в жизнь общества. Так строилась позднее и многолетняя работа Беньямина над исследованием, посвященным парижской жизни девятнадцатого века.
Едва расставшись с Лацис, Беньямин тут же ищет возможности вновь увидеться с ней. Он неожиданно появляется в Риге, где она тогда руководила рабочим театром и подвергалась политическим репрессиям, так что сюрприз оказался ей явно некстати. Но Беньямин не сдавался и зимой 1926/27 года он уже находится в Москве, куда в то время перебралась Лацис. Его отчаянная попытка завоевать Лацис и Москву кончилась крахом, и он покидает город в слезах. История этой поездки в подробностях была засвидетельствована дневником, который Беньямин вел в те дни в Москве[5].
Неудача означала только, что Беньямин, столкнувшись напрямую с происходящим в России, не столько осознал (очутившись без языка в чужой среде, трудно проанализировать ситуацию), сколько ощутил, что ему там не место. Это не была антипатия, скорее, напротив: его проникновенные строки о русских игрушках хранят добрую память о многом, что он увидел в Москве и ее окрестностях. Но все же он решает обратиться на Запад, к той реальности, которая была ему намного ближе, в которой он чувствовал себя как дома. И испытанное им в юности очарование Парижем уже начинает обретать более серьезные очертания: не оставляя занятий темой родины и ближних к ней стран, Беньямин прощупывает возможность сосредоточить свое внимание на этой «столице девятнадцатого столетия».
В 1928 году выходят две книги Беньямина, настолько различные, что они словно написаны разными людьми. Одна из них – «Происхождение немецкой барочной драмы», переработанная неудавшаяся диссертация. Несмотря на все своеобразие (которое и предопределило ее провал), это была все же академическая работа, посвященная культуре прошлого[6]. Вторая – «Улица с односторонним движением» – свидетельствовала уже о новом человеке, что подтверждало и посвящение книги Анне Лацис. Это сборник миниатюр о том, что автор видел вокруг себя, о жизни сейчас; это были зарисовки, афоризмы, сатирические наблюдения и парадоксальные рассуждения. Такая россыпь внешне не связанных фрагментов напоминала коллаж или «монтаж аттракционов» в духе Мейерхольда (в театре которого Беньямин не раз побывал в Москве)[7].
Благодаря Лацис Беньямин знакомится с Бертольтом Брехтом. Совершенно разные, они тем не менее сразу же оценили друг друга, и довольно быстро между ними установились дружеские отношения. В этой паре Брехт был, скорее, ведущим, а Беньямин – ведомым, однако из этого не следует вывод о неравноправных отношениях. Правда, из попыток совместной работы не вышло почти ничего (то они затевали издавать журнал «Кризис и критика», то планировали написать детективный роман, но эти и другие замыслы остались нереализованными). Они могли соглашаться, могли спорить, могли вообще молчать (просиживая часами за шахматной доской), но во всех случаях ценили возможность быть вместе. Особым подтверждением дружбы стали годы эмиграции, во время которых Брехт поддерживал Беньямина, насколько это было в его силах[8].
В поле зрения Беньямина оказались не только авангардный эпический театр, но и кино (Эйзенштейн и Чаплин), фотография, иллюстрированные издания и многое из того, что с традиционными представлениями о философских поисках никак не согласовалось. Конечно, жизнь свободного интеллектуала и не могла быть такой же, как у академического работника. Беньямину приходится ради заработка заниматься и книжными рецензиями, и сообщениями о выставках. Вообще такого рода литературные мелочи занимают в собрании его сочинений шестьсот страниц. В это время он не только размышляет о новых способах коммуникации, но и осваивает кое-что на практике. На рубеже двадцатых и тридцатых годов Беньямин был одним из пионеров литературного радиовещания. Он выступал на радио с очерками, создавал образовательные передачи для детей, писал экспериментальные радиопьесы. К сожалению, звукозаписи передач не делались (они шли в прямом эфире), но сохранились многие тексты, по которым можно судить об этой стороне его деятельности.
Новым поворотом в судьбе Беньямина становится 1933 год. С приходом нацистов к власти ему не остается ничего иного, как бежать из страны. Начинаются нелегкая жизнь изгнанника. Первое время еще удается публиковать кое-что под различными псевдонимами в Германии, но вскоре этот источник средств к существованию иссякает. Беньямин обращается в издательства и редакции в Чехословакии, Швейцарии, в Советском Союзе. Публиковаться удается не всегда, к тому же гонорары – если их вообще удается получить – оказываются мизерными.
Помощь приходит от франкфуртского Института социальных исследований, эмигрировавшего в полном составе и продолжавшего, насколько это было возможно, деятельность за пределами Германии. Деловые отношения устанавливались нелегко. Даже для нетрадиционных марксистов института, таких как Хоркхаймер и Адорно, взгляды Беньямина оказывались порой слишком экзотичными. Тут необходимо заметить, что Беньямин был хотя и чрезвычайно эксцентричным марксистом, нет никакого смысла (к чему была склонна симпатизировавшая ему Ханна Арендт) пытаться «спасти» его, утверждая, будто марксистом он на самом деле не был. Беньямин в этом случае, как и всегда, оставался верен себе: он не был адептом ни одного из идеологических направлений своего времени. Он не был ни правоверным иудеем (чего добивался от него Шолем), ни правоверным коммунистом (чего добивалась от него Лацис), но в то же время если он утверждал, что работает в рамках исторического материализма, то это была правда – конечно, при том, что понимал он исторический материализм непременно по-своему. После некоторых колебаний институт все же включил его в число своих сотрудников, и небольшая, но регулярная стипендия дала Беньямину возможность небольшой передышки. В то же время это означало и некоторую зависимость, поскольку ему приходилось выполнять работы по заказу института.







