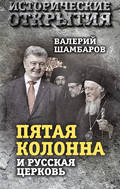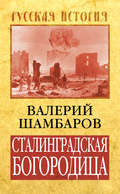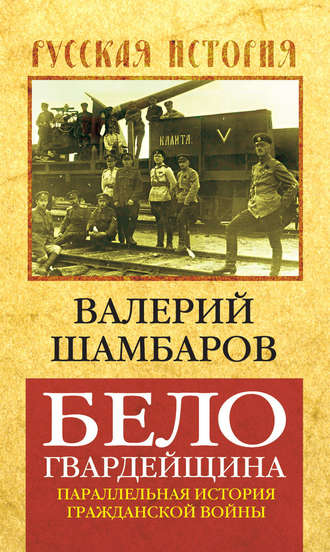
Валерий Шамбаров
Белогвардейщина. Параллельная история Гражданской войны
Быстро и решительно взять верх большевики не могли. И контингент московского «пролетариата» был более умеренный. И свободного доступа к оружию они не получили. Оружие хранилось в кремлевском арсенале под охраной вполне большевистской пулеметной роты прапорщика Берзиня. Но подступы к Кремлю Рябцев занял юнкерами и оружия из древних стен не выпускал. Пулеметной роте был предложен ультиматум о сдаче. Сначала солдаты хорохорились, но после предупредительных выстрелов из миномета замитинговали и постановили сдаться. При сдаче кто-то из ожесточившихся юнкеров дал по солдатам две очереди из пулемета. Этот факт моментально стал известен и широко использовался большевиками для агитации в частях гарнизона и на рабочих окраинах.
Чиновный Петроград был надломлен еще с февраля постоянными потрясениями. Москва была городом более прочным – торговым, промышленным, обстоятельным В Москве и родился термин «Белая гвардия». В противовес Красной, ее составили добровольцы из интеллигенции, студенты, гимназисты, офицеры, находившиеся в отпусках и на лечении, отставники. В руках белогвардейцев и юнкеров остались центральные кварталы. Большевики окружали их со стороны рабочих окраин. Постепенно они набирали силу, собирали оружие среди железнодорожных грузов, на подмосковных складах В ремонтных мастерских нашлись огромные 152-миллиметровые французские осадные орудия. Их установили на Воробьевых горах, на нынешней смотровой площадке. Весь город – как на ладони. Крупнокалиберные снаряды полетели на выбор – по любому зданию, по Кремлю.
К осаждающим целыми эшелонами стали подходить подкрепления. Матросы из Петрограда. Красногвардейцы из Иваново-Вознесенска. Осажденным помощи ждать было неоткуда. Ни войск, ни казаков, ни Временного правительства, ни одного благоприятного известия из других городов. Когда однозначно удостоверились в победе большевиков в столице, когда в Москве тоже обозначился их перевес, одна за другой стали выступать на их стороне «нейтральные» части гарнизона. С полевой артиллерией и пулеметами.
У белой стороны артиллерии не было. Силы таяли, и кольцо постепенно сжималось. Некоторое время, судорожно цепляясь за слухи о подмоге, о казаках, еще дрались – за каждый дом, за каждый квартал. Наконец, после недели боев, осажденные в Кремле и расстреливаемые артиллерией, вступили в переговоры и сдались.
В провинциальных городках и селениях переворот прошел практически незаметно. Власть уездных и губернских комиссаров правительства была настолько слаба, что ее и раньше никто всерьез не принимал. Во многих местах еще несколько месяцев сохранялось двоевластие. Параллельно работали и совдепы, и городские Думы. Последние Думы разогнали только весной. Боевые действия развернулись лишь в тех городах, где были юнкерские училища. В Казани, Киеве, Смоленске, Омске, Иркутске. Сражались против большевиков и гибли мальчишки. Те, кто еще сохранил в чистоте свои души и идеалы. Причем, даже неизвестно, за что погибали. За неумное Временное правительство? За неумелых и нечестных политиков? За Россию? Но как раз Россия, взбесившаяся и одуревшая от всеобщей анархии, везде давила этих мальчишек тупой, темной массой. И убивала, убивала, убивала…
9. Поход на Питер – Краснов и Керенский
Не встречая вызванных войск, Керенский домчался до Пскова. И угодил в осиное гнездо. Штаб Северного фронта уже передался большевикам и кишел распоясавшейся солдатней. Но в Пскове министр-председатель случайно встретил генерала Краснова. Петр Николаевич Краснов, земляк Шолохова – родом из Вешенской, был служака прямой, убежденный монархист, вымуштрованный лейб-гвардией. Человеком был весьма интеллигентным и образованным, до революции успешно подвизался на поприще литературы, а в русско-японскую работал фронтовым корреспондентом. Но внешне любил показать эдакую свою «солдафонистость», казачий консерватизм. Словом, образ настоящего донского казачины, по-казачьи грубоватого и по-казачьи хитроватого. Звезд с неба не хватал, но командиром был неплохим, всегда заботился о подчиненных, поэтому казаки его любили и ценили.
Его корпус стоял в г. Острове. Да какой там корпус! Вместо отдельной Петроградской армии, замышлявшейся Корниловым, 3-й конный, красу и силу генерала Крымова, передали во фронтовое подчинение. И растащили как надежные части по сотням и полкам от Витебска до Ревеля. Для охраны штабов, затыкания дыр и ликвидации беспорядков. 25.10 Краснов получил приказ Ставки двигаться на Петроград, а затем приказ главнокомандующего фронтом – не двигаться. Поехал в Псков выяснять. Ни черта не выяснил, зато случайно встретил Керенского, и тот приказал – двигаться.
Наобещал, что в подчинение Краснова придаются еще три пехотные дивизии, одна кавалерийская, которые вот-вот подойдут. Мимоходом бросил порученцу указание, чтобы Краснову вернули его растасканные полки да сотни. Он еще играл в свои игрушки и верил, что его приказы кто-то станет выполнять. Керенский с Красновым поехали в Остров. Погрузили имеющихся казаков в эшелоны. Железнодорожники волынили, не зная, чья возьмет. Тогда есаул Коршунов, работавший когда-то помощником машиниста, сел с казаками на паровоз – и поехали. Торжественно, с помпой, Керенский назначил Краснова командующим армией, идущей на Петроград. Было в армии 700 казаков при 16 пушках против 200 тысяч солдат, матросов и красногвардейцев.
Шли спасать страну. А к Керенскому, вообразившему, что он ведет их в бой, как раз 3-й конный корпус относился отвратительно. Ведь он их недавно изменниками величал, любимого командира Крымова погубил. Поэтому, например, сотник Карташов на протянутую министерскую руку своей не подал. Презрительно пояснил: «Виноват, господин Верховный Главнокомандующий, я не могу подать вам руки. Я – корниловец».
27.10 высадились под Гатчиной. Город взяли без боя. Несколько большевистских рот разоружили и распустили на все стороны. Причем прибывшую из Петрограда команду в 400 чел. восемь казаков нахрапом заставили сдаться. Керенский тут же засел в гатчинском дворце, оброс адъютантами, порученцами и барышнями-поклонницами. Краснов произвел разведку, для чего просто позвонил по телефону жене в Царское Село. Узнал от нее обстановку в царскосельском гарнизоне и Петрограде.
Керенский до сих пор свято верил, что, узрев его, массы загорятся энтузиазмом и побегут за ним. Не тут-то было. Гатчинский гарнизон объявил нейтралитет. Поддержали только офицеры летной школы, отправили на Петроград два аэроплана разбрасывать воззвания. Из летчиков составили команду броневика, отбитого у красных. Подтянули пару казачьих сотен из Новгорода. Сообщили из Луги, что 1-й осадный «полк» в 88 человек поддержал правительство и грузится в эшелон. И все. Ни о каких корпусах, дивизиях даже слышно не было.
В ночь на 28-е 480 казаков пошли на Царское Село (с гарнизоном 16000). Разоружили заслоны по дороге и наткнулись на первую линию обороны, открывшую огонь. Ударили из пушки – большевики держатся, пулеметами ощетинились. Лишь когда 30 казаков атаковали в обход – побежали. В Царском Селе выкатился толпой весь гарнизон, замитинговал. К ним поехали 9 казаков дивизионного комитета. Полдня митинговали вместе. Приехал Керенский, попытался речи произносить. Кое-кого уговорили разоружиться. Но большинство, почуяв слабость казаков, решили их перебить. Стали к атаке готовиться. Заметив это, казаки попросили Керенского отъехать назад и выкатили две пушки. Едва солдатня, паля из винтовок, пошла «на ура» – дали два выстрела шрапнелью. И вся многотысячная масса в панике разбежалась, давя друг дружку и угоняя поезда на Петроград. Царское Село заняли. Простояли в нем следующий день, надеясь хоть на какую-нибудь подмогу. Пришли только несколько подразделений из их же корпуса, бронепоезд из Павловска да из Петрограда несколько бежавших юнкеров, учебная сотня оренбургских казаков – даже без винтовок, с одними шашками. Осадный полк, двигавшийся из Луги, перехватили матросы и обстреляли. Полк разбежался.
И офицеры-корниловцы, и казаки кляли Керенского, обманувшего их нереальными прожектами. Приехавший Савинков предложил Краснову арестовать Керенского и возглавить движение самому. Краснов отказался, считая это некрасивым. И бесполезным. Утром 30.10 попробовали двигаться дальше. Дорогу уже преграждали сплошные линии окопов. И занимали их уже не разложившиеся солдаты-тыловики. Не менее 6 тыс. матросов и красногвардейцев, 3 броневика с артиллерийским вооружением. От развернувшихся 630 казаков они не побежали. Наоборот, сами то и дело лезли в атаки. Выручало преимущество казаков в артиллерии. Она подбила один броневик и осаживала большевиков, заставляя держаться на расстоянии.
Краснов решил продержаться до вечера. В последней надежде, что гром его пушек отрезвит Петроград, что некоторые части гарнизона одумаются и придут на помощь. Вместо этого новая колонна из Петрограда, около 10 тысяч, попыталась обойти казаков. Но основу составляли опять солдаты, Измайловский полк, – после первой же шрапнели с бронепоезда они пустились наутек В свою очередь, сотня оренбуржцев с гиканьем и посвистом поскакала на красные позиции. Красногвардейцы толпами побежали. Но матросы не отступили, встретили огнем. Командир сотни был убит, несколько казаков ранены, лошади попали в болото, и атака захлебнулась. Прикатил на автомобилях Керенский с порученцами и барышнями-поклонницами. Его спровадили без церемоний, посоветовали убраться в Гатчину.
К вечеру бой затих. У казаков кончились снаряды. А большевики подтянули морскую артиллерию, начали бить по Царскому Селу. При первых разрывах запаниковали и замитинговали полки царскосельского гарнизона. Потребовали прекратить бой, угрожая ударом с тыла. В сумерках матросы начали обходить фланги. И Краснов приказал отступать. Советская сторона за день боя потеряла убитыми более 400 человек Казаки – 3 убитых и 28 раненых.
Вскоре в Гатчину явились представители матросов и железнодорожников заключить перемирие и начать переговоры. Другого выхода не осталось. Окружение Керенского лихорадочно пыталось использовать эту передышку. Хваталось за соломинки. Савинков помчался в польский корпус, Войтинский – в Ставку, искать ударные батальоны, верховный комиссар Станкевич – в Петроград, искать соглашения между большевиками и другими партиями социалистов. А казаки вырабатывали с матросами свои соглашения. Первым пунктом мира потребовали прекратить в Петрограде преследования офицеров и юнкеров, дать полную амнистию. На полном серьезе казаки обсуждали вариант «Мы вам – Керенского, а вы нам – Ленина. И замиримся».
И на полном серьезе пришли к Краснову доложить, что скоро им для такого обмена привезут Ленина, которого они тут же около дворца повесят. Впрочем, и матросы тогда Ленина не шибко боготворили. Откровенно называли «шутом гороховым» и заявляли: «Ленин нам не указ. Окажется Ленин плох – и его вздернем».
Керенский, видя такой оборот дела – многие казаки склоняются к тому, чтобы выдать его; святое дело, «потому что он сам большевик», – в панике обратился к Краснову. Генерал, пожав плечами, сказал: «Как ни велика ваша вина перед Россией, я считаю себя не вправе судить вас. За полчаса времени я вам ручаюсь». И Керенский бежал. Нелепая фигура исчезла с исторической арены уже навсегда.
Переговоры, перемирие – все кончилось само собой. В Гатчину вошла 20-тысячная большевистская армия из солдат, матросов, красногвардейцев и буквально растворила в себе горстку казаков. Начался общий бардак Пришедший Финляндский полк привычно потребовал Краснова к себе на расправу. Но стоило генералу наорать и обматерить два десятка вооруженных делегатов, они пулей вылетели вон из его кабинета. А потом приелали командира, который извинялся и просил разрешения разместить полк на ночлег, потому что с дороги, мол, устали. Хамы, привычные бесчинствовать над бессловесными и покорными, они сами становились овечками, получая отпор. И матросский командующий Дыбенко, отгоняя оголтелых подчиненных от офицеров, поучал «корниловцев» «Товарищи, с ними надо умеючи. В морду их, в морду!»
Вслед за Дыбенко явился и другой командующий – Муравьев. Ворвавшись в штаб Краснова, объявил всех арестованными. На него с руганью наскочил, требуя извинений, подъесаул Ажогин, председатель дивизионного комитета донцов. Муравьев опешил. Поругались, помирились. Кончилось тем, что Муравьев сел с казаками обедать и напился, вспоминая общих фронтовых знакомых. Прикатил сам Троцкий. И тоже прибежал к Краснову. Потребовал, чтобы тот приказал отстать от него какому-то казаку, прилипшему как банный лист. А казак возражал, что «этот еврейчик» забрал у него арестованного, которого он охранял.
2.11 Краснова с начальником штаба, гарантируя безопасность, вызвали для переговоров в Смольный. И все-таки попытались арестовать. Но уже к вечеру в Петроград примчался весь комитет 1-й Донской дивизии, притащив с собой Дыбенко. Насели на большевиков, вцепились в их главнокомандующего прапорщика Крыленко и… Краснова освободили. А казаков договорились с оружием отпустить на Дон. Их боялись. С ними заигрывали. Ведь ходили слухи, что Каледин поднял Дон и собрался идти на Москву. Напоследок начальника штаба дивизии полковника С. П. Попова вызвали к Троцкому. Лев Давидович интересовался: как отнесся бы Краснов, если бы новое правительство предложило ему высокий пост? Попов откровенно ответил «Пойдите предлагать сами, генерал вам в морду даст».
Вопрос был исчерпан.
10. «Десять дней, которые потрясли мир…»
Наверное, многие задавались вопросом почему десять, если власть захватили за сутки? Но дело в том, что первый период чисто большевистского правления и длился-то всего десять дней. Российская общественность отнеслась к перевороту не очень серьезно. Говорили о «пирровой победе», поскольку большевики, захватив власть, оказались в полной политической изоляции. От них отвернулись даже социалистические партии. Считалось само собой разумеющимся, что править страной в таких условиях невозможно… Вот глупенькие! Еще не знали всех возможностей однопартийной власти. Не знали, что такая «изоляция» – как раз то, что большевикам нужно. И что можно запросто начхать на всевозможную общественность, протесты и резолюции.
Другое дело, что сами большевики еще были не в состоянии долго держаться в однопартийном режиме. Первые акты новой власти были чисто пропагандистскими трюками. Два куска, брошенные в толпу, чтобы привлечь ее на свою сторону. Главные декреты были к тому же плагиатом. «Декрет о мире» представлял упрощенную выкопировку из «Наказа Скобелеву», проекта предложений эсеро-меньшевистского ЦИК для Парижской мирной конференции. Опять же, между голословным «декретом» и реальным миром лежала пропасть. Союзники, усилившиеся за счет США, возможность мира «вничью» категорически отвергали, а на Восточном фронте стояли 127 австро-германских дивизий. С деловой точки зрения «Декрет о мире» был безответственной, чисто декларативной бумажкой.
«Декрет о земле» вызвал шок у эсеров, т. к. большевики от своего имени изложили эсеровскую аграрную программу. Ленин на протест ответил: «Они обвиняют нас в том, что мы взяли их аграрную программу. Что ж, можем их поблагодарить. С нас и этого довольно».
Но и этот декрет не решал никаких проблем. Во-первых, землю деревня давным-давно захватила и поделила, в октябре уже догорали последние помещичьи усадьбы. Во-вторых, правил раздела земли декрет не оговаривал, оставляя простор для будущих конфликтов. В-третьих, земля переходила в собственность государства, а крестьяне хотели ее получить в частную собственность. Кстати, более поздние «рабочие» декреты тоже были плагиатом. Рабочую программу большевики позаимствовали у анархо-синдикалистов.
А вот за пропагандистскими трюками пошли акты чисто большевистского законотворчества. 28.10 – «Декрет о печати». Свобода слова перестала существовать. Газеты, оппозиционные новому правительству, закрывались. Ленин пояснил, что «они отравляют народное сознание».
Вслед за этим начали арестовывать газетчиков и граждан, покупающих газеты, рискнувших нарушить запрет. Троцкий заявил: «Во время гражданской войны право на насилие принадлежит только угнетенным».
Далее последовали «Декрет о создании народных трибуналов», «Декрет о государственной монополии на объявления». Еще 25.10 распустили «предпарламент». Прочие партии, социалистические и либеральные, пытались организовать центр сопротивления – «Комитет общественного спасения», консолидировавшись вокруг городской Думы. На их решения большевики не обращали внимания, а Троцкий спокойно констатировал:
«Что ж, на это есть конституционные средства. Думу можно распустить и переизбрать».
Но даже это хлипкое противобольшевистское единство раскололось, едва на Петроград пошел Краснов. «Революционная демократия» боялась казаков, генералов и «контрреволюционеров» куда больше, чем большевиков, хотя большевистская прокламация «К позорному столбу!» неожиданно заклеймила самих эсеров с меньшевиками, изменниками и корниловцами, призывая стереть их с лица земли. Левые эсеры, интернационалисты, метнулись к большевикам защищать «революцию» от «корниловцев». Лидер меньшевиков Дан рассуждал:
«Если большевистское восстание будет потоплено в крови, то кто бы ни победил, Временное правительство или большевики, это будет торжеством третьей силы, которая сметет и большевиков, и Временное правительство, и всю демократию».
Возглавляемый меньшевиками Викжель, комитет путейцев, под предлогом нейтралитета отказался перевозить по железным дорогам войска как большевиков, так и их противников. Если разобраться, нейтралитет был односторонним: войска большевиков в Петрограде и не нуждались в перевозках. А правый эсер Чернов, выехав в Лугу, пробовал организовать «нейтральные» части, чтобы с их помощью разнять враждующие стороны.
Между прочим, протестуя против введения смертной казни Корниловым, сами большевики и не думали стесняться в данном вопросе. Уже в эти дни Троцкий провозглашал систему «За каждого убитого революционера мы убьем пять контрреволюционеров!»
Практического применения это пока не получило, но вступление в Царское Село, оставленное казаками, ознаменовалось казнями. Расстреляли священника за то, что благословлял казаков, еще несколько человек В Петрограде расстреливали офицеров и юнкеров, восставших при подходе Краснова и захвативших телефонную станцию. У «буржуев» устраивали повальные обыски. Кстати, в Гатчине выпотрошили с обыском и квартиру Плеханова, лежавшего с высокой температурой. Для новых властей лидер и основоположник российской социал-демократии уже был «буржуем» и «контрой».
Хотя «победа над Керенским-Красновым» упрочила позиции большевиков, консолидировала с ними «левых», новое правительство висело не волоске. Не речи политиков, не партийная изоляция была тому причиной. Дал первую осечку план Ленина – захватив верхушку власти, готовыми рычагами государства сверху строить свой собственный социализм. Как раз «рычаги» отказались повиноваться захватчикам. На грань катастрофы поставил их «саботаж», о котором теперь упоминается мельком, вскользь. Великое гражданское мужество проявила городская интеллигенция, служащие государственных и общественных учреждений, инженеры, техники, клерки, телефонисты, железнодорожники, телеграфисты. Прямо или косвенно они отказывались служить новому режиму. Стойко держались против угроз насилия, невыплаты денег, увольнений и выселения из квартир. Разболтанный государственный режим забуксовал. Почта, телеграф, банк, железные дороги не признавали большевиков. Совнарком оказался отрезанным от страны, передавая директивы только через царскосельскую и корабельные радиостанции да рассылая малонадежных курьеров. Наверное, такая власть пала бы. Если бы не ленинская «гибкость тактики».
5 ноября в Петрограде открылся съезд Советов крестьянских депутатов. В аграрной России – куда более представительный орган, чем съезд депутатов рабочих и солдатских. Несмотря на власть большевиков и их сильное давление, у них оказалось менее 20 % сторонников. Около 50 % было от левых эсеров, 25 % – от правых эсеров. Чернов, приехавший «с фронта», был встречен овацией. Ленина освистали с криками «долой!». Декреты о мире и земле на делегатов впечатления не произвели. Реальный мир оставался за горами за долами, а эсеровскую аграрную программу сами вырабатывали, намереваясь принять как раз на данном съезде. Ленин вилял – мол, не все ли равно, кто именно даст народу землю, главное – результат. Съезд раскололся, потонул в словоблудии, взаимных обвинениях, речах и голосованиях. И разогнать-то его большевики еще не могли, и обстановка складывалась не в их пользу.
Но… пока говорились речи, в Смольном начались секретные переговоры между большевиками и левыми эсерами. Захватчики отступали, соглашались на коалиционную «социалистическую» власть. Первоначально эсеры требовали представительства в новом «парламенте», ЦИК всех левых партий, городских Дум, профсоюзов, земств, исключения из правительства Ленина и Троцкого, роспуска ВРК и других репрессивных организаций. Долго торговались. Наконец к соглашению сумели прийти «земляки». От большевиков – Бронштейн (Троцкий), Розенфельд (Каменев), Апфельбаум (Зиновьев), от эсеров – Натансон, Шрейдер, Кац (Камков). В новый ЦИК, кроме 108 депутатов от съезда рабочих и солдатских Советов, договорились ввести еще 108 от съезда крестьянских Советов, 100 от армии и флота, 50 от профсоюзов. Думы и земства отведены, Ленин, Троцкий и ВРК оставлены. Создавалось коалиционное, большевистско-левоэсеровское правительство. 16 ноября, день заключения соглашения, праздновался всем Петроградом как конец гражданской войны, один из величайших дней революции. К коалиции примкнули меньшевики-интернационалисты Мартова, «Новая жизнь» Горького, польские социалисты, анархисты. Провозглашалась победа революции, здравицы объединению сил демократии и социализма.
И действительно было что праздновать. Союзникам большевиков кружила голову иллюзия демократической власти, до которой теперь дорвались и они, а самим большевикам – то, что они у власти удержались. И никакой внешней угрозы этой власти вроде бы больше не просматривалось. Фронтовая Ставка так и не превратилась в центр сопротивления. Служака Духонин после падения правительства и исчезновения Керенского принял на себя командование, призвал фронт сохранять спокойствие и стал ждать, когда образуется новое правительство и даст ему указания. 7.11 Совнарком приказал ему «обратиться к военным властям неприятельской армии» о заключении перемирия и начале переговоров. Удивленный Духонин ответил, что «в интересах России – скорейшее заключение мира», но это не относится к компетенции главнокомандующего. Это может сделать только «центральная правительственная власть, поддержанная армией и страной».
Усмотрев в ответе контрреволюцию и саботаж, Совнарком сместил Духонина «за неповиновение и поведение, несущее неслыханные бедствия трудящимся».
Однако ему предписали «продолжать ведение дел, пока не прибудет в Ставку новый главнокомандующий» – прапорщик Крыленко, будущий палач ленинских, а потом сталинских политических процессов. По дороге, на фронте 5-й армии, Крыленко вступил с немцами в переговоры о перемирии. Одновременно большевики по радио через головы командования обратились «в массы», предоставив полковым комитетам право заключать мир на своих участках.
А в Могилеве творилось черт знает что. Сюда съехались лидеры прошлого ЦИК – Чернов, Скобелев, Авксентьев, верховный комиссар Временного правительства Станкевич. Начали с Общеармейским солдатским комитетом переговоры о создании новой власти, «однородного социалистического министерства, от народных социалистов до большевиков включительно», с Черновым во главе. Спорили, тонули в партийных догмах и словопрениях, уже никому не интересных и не нужных, кроме них самих.
В Быховской тюрьме, будто запертый в клетке лев, метался Корнилов. Здесь остались пятеро заключенных – Корнилов, Деникин, Романовский, Лукомский и Марков. Остальных следственная комиссия прокурора Шидловского освободила за отсутствием состава преступления. Но и для оставшихся обвинение в «покушении на ниспровержение правительства» потеряло теперь всякий смысл, поскольку правительство уже свергли другие. Теперь они нужны были большевикам только для расправы. Бежать? Это считали неприемлемым с точки зрения чести, нравственной ответственности. Атаман Каледин писал в Ставку, чтобы быховцев отправили на Дон, на поруки казаков. Духонин колебался… Дисциплинированным солдатом был.
Корнилов в письме предлагал ему план обороны Ставки, организации на ее базе центра борьбы: немедленно стянуть к Могилеву Корниловский полк, ударные батальоны, чехословацкий и польский корпуса, одну-две самые надежные казачьи дивизии, создать запасы лучшего оружия – пулеметов, автоматических винтовок, броневиков, гранат для офицеров-добровольцев, которые обязательно будут собираться к Ставке. Но Духонин не был готов к «междоусобице» и кровопролитию. АИ. Деникин писал: «Духонин был и остался честным человеком. Но в пучине всех противоречий, брошенных в жизнь революцией, он безнадежно запутался. Любя свой народ, любя армию, отчаявшись в других способах спасти их, он продолжал идти скрепя сердце по пути с революционной демократией, тонувшей в потоках слов и боявшейся дела». Единственное, что он пытался сделать, – это удержать на месте армию, уже сплошь большевистскую. Единственное, на что решился, – обратиться к стране: «К вам, представители всей русской демократии, к вам, представители городов, земств и крестьянства, обращаются взоры и мольбы армии: сплотитесь все вместе во имя спасения Родины, воспряньте духом и дайте исстрадавшейся земле Русской власть – власть всенародную, свободную в своих началах для всех граждан России и чуждую насилию, крови и штыку».
Никто даже не услышал этих благих пожеланий.
А несколько эшелонов с матросами Крыленко двигались к Ставке. Двигались трусливо, осторожно. Подолгу стояли на узловых станциях, разведывая обстановку впереди. Боялись «корниловцев», ударников, казаков. Митинговали с «нейтральными» солдатами, беспрепятственно их пропускающими. Вели переговоры с казаками, пока не получили от них заверения, что «коалиционному» правительству казаки подчинятся, а в междоусобицу вмешиваться не будут. Постепенно распаляясь собственными беспочвенными страхами, Крыленко уже клеймил Духонина изменником и объявлял главнокомандующего, «продолжающего ведение дел» до его прибытия, вне закона.
Ставка, по сути, оставалась бездействующей. Она уже никем не руководила. Главнокомандующий Юго-Западным фронтом генерал Володченко признал власть украинской Центральной Рады. Румынский фронт, где наличие румынских войск сдерживало анархию, ориентировался на указания представителей Антанты. Северный и Западный фронты, признав советскую власть, начали стихийное, ротами и батальонами, «заключение мира». К середине ноября совещание лидеров «революции» в Могилеве распалось, не придя ни к какому соглашению. Демократы разъехались кто куда. Общеармейский солдатский комитет объявил Ставку, как «военно-технический аппарат», нейтральной и обещал ей вооруженную защиту. Представители казачьего союза уговорили Духонина отпустить на Дон быховцев, но Общеармейский комитет воспротивился этому. Наконец, утром 19.11 из Ставки в Быхов приехал полковник Кусонский с известием – через 4 часа Крыленко будет в Могилеве. Выбора не было – немедленно бежать.
Корнилов из заключенного, требовавшего открытого суда, чтобы очиститься от клеветы и высказать всей России свою программу, снова стал самим собой. Он вызвал коменданта тюрьмы и отдал приказ Текинскому полку, охранявшему ее, изготовиться к походу. Для безопасности решили разбиться поодиночке, в разные стороны. Лукомский стал «немецким колонистом», уехал на Москву. Романовский переоделся прапорщиком, Марков – солдатом. На паровозе выехали в Киев. Деникин стал поляком Домбровским, помощником начальника перевязочного пункта, поехал в Харьков. Корнилов взял самое трудное. Во-первых, отвлек внимание преследующих Во-вторых, не хотелось бросать текинцев. Текинцы боготворили его не только как генерала – общего кумира. Сколько для них значило, что полководец был их «земляк», свободно говорил на их родном языке! Были преданы ему до конца – и он считал долгом до конца оставаться с ними. Внутренний караул тюрьмы из полубольшевистского Георгиевского батальона Корнилов приказал построить, поблагодарил за службу. Солдаты проводили его криками «ура!», пожеланиями счастливого пути. В ночь на 20.11 Текинский полк во главе с Корниловым в конном строю покинул Быхов и канул в леса.
Духонина бросили все. Вслед за демократами уехал в Киев верховный комиссар Станкевич. Звал с собой, но опять Общеармейский комитет воспротивился, чтобы генерал бросил пост. Крыленко остановился в Орше, прислал оттуда свой приказ, уже как Главнокомандующий: ударный батальон, охранявший Ставку, срочно перевести в Гомель. Даже одного батальона ударников он боялся. А 19.11 по своей инициативе подтянулись другие ударные батальоны, командиры прибыли к Духонину, просили разрешения остаться для защиты Ставки. И опять Общеармейский комитет высказался против. Духонин, разуверившийся во всем, ответил ударникам:
«Я не хочу братоубийственной войны. Тысячи ваших жизней будут нужны Родине. Настоящего мира большевики России не дадут. Вы призваны защищать Россию от врага и Учредительное Собрание от разгона… Я имел и имею тысячи возможностей скрыться. Но я этого не сделаю. Я знаю, что меня арестует Крыленко, а может быть, меня даже расстреляют. Но это смерть солдатская».
И лишь удостоверившись, что ударники покинули Могилев, Крыленко двинул на Ставку свои эшелоны. Общеармейский солдатский комитет, обещавший «нейтральную» защиту, тут же распустил сам себя и рассеялся. 20 ноября Духонин был арестован прибывшим Крыленко, озверелая толпа матросов растерзала его и долго глумилась над трупом. Обезображенные останки генерала несколько дней валялись под окнами вагона большевистского верховного главнокомандующего.
Последствия ленинского «мира» через головы командования не замедлили сказаться. Эшелоны немецких войск планомерно, систематически потянулись на Западный фронт, Германия избежала катастрофы, мировая война получила продолжение, по крайней мере, на полгода. Унесла еще сотни тысяч жизней. Для России последствия стали еще более жестокими. 10 миллионов солдат одичавшими, неуправляемыми толпами хлынули через всю страну по домам Все сметали на своем пути, громили крестьянские хозяйства, убивали и насиловали. Захватывали поезда, которые поползли по дорогам, оставляя за собой разбитые вокзалы, разгромленные станции, искалеченный транспорт. Добывали пропитание грабежом, растаскивали и громили казенные склады.