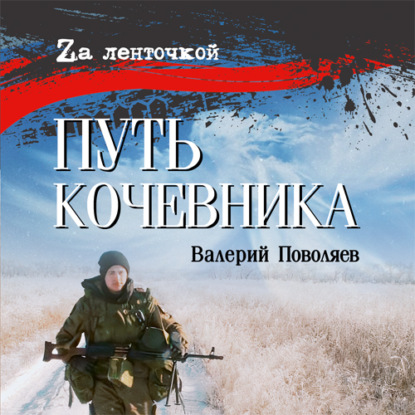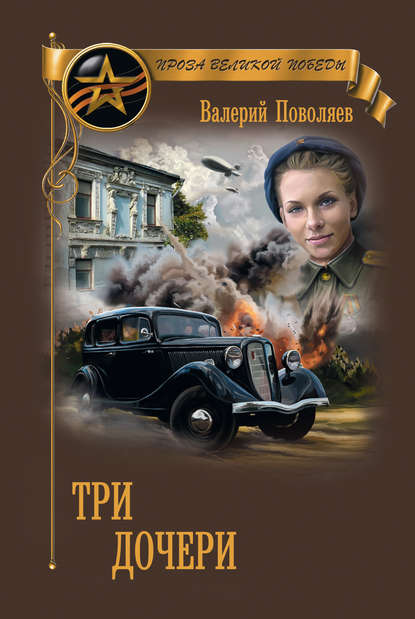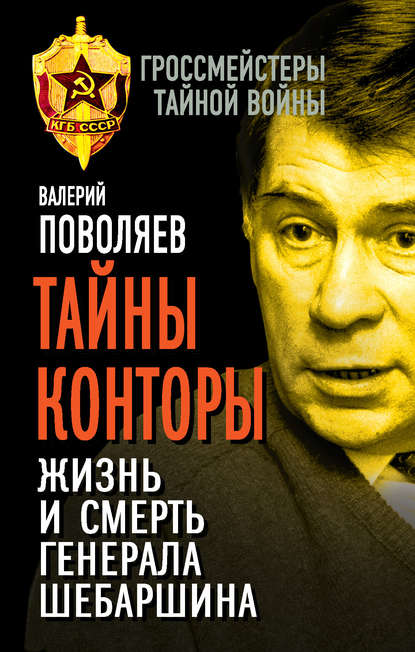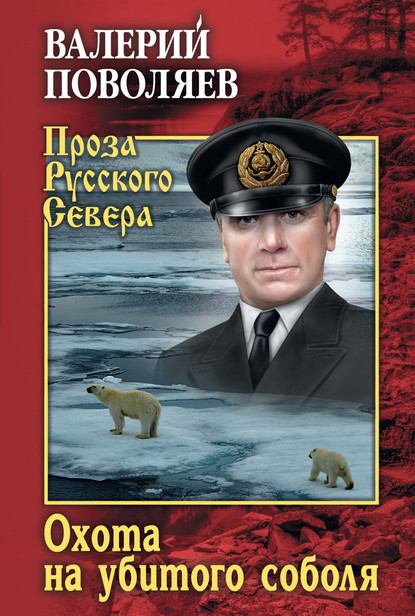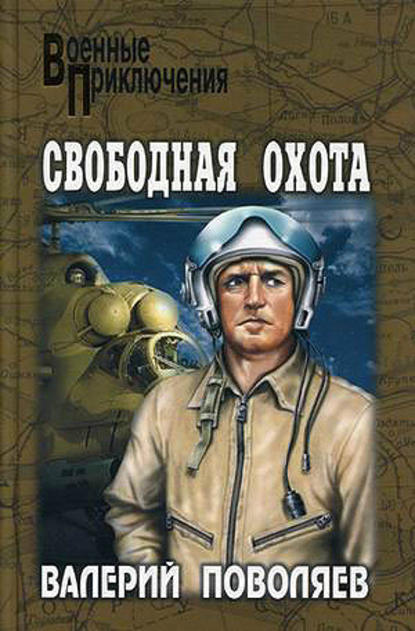Полная версия:
Валерий Дмитриевич Поволяев Сталинградский гусь
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Валерий Дмитриевич Поволяев
Сталинградский гусь
© Поволяев В.Д., 2021
© ООО «Издательство «Вече», 2021
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2021
Сайт издательства www.veche.ru
Сталинградский гусь
Сталинградский гусь Гусенок был небольшой, серо-желтый и очень проворный, он появился на нейтральной полосе между двумя линиями окопов – нашей и немецкой. Над окопами низко, длинными, пахнущими маслом и гарью лохматыми полосами полз дым, иногда прилипал к земле, цеплялся за огрызки кустов, оставлял на них ватные комья, сверху накладывал тонкий слой тумана, будто присыпал мелким коровьим творогом и устремлялся дальше.
Дым этот полз со сталинградских окраин.
Паулюс уже сдался, его, как объяснил командир роты лейтенант Пустырев, вместе с несколькими генералами и двумя переводчицами увезли в Москву на самолете Ли-2 для переговоров, в роте надеялись, что пленение Паулюса поможет приблизить далекую победу.
Отдельный пехотный батальон, в котором служили Пустырев, держал оборону на южных подступах к Сталинграду, поскольку оттуда пытались пробиться к городу немецкие танки, напирала пехота, – фрицы еще надеялись помочь Паулюсу, но помогать генерал-фельдмаршалу было уже поздно, хотя в одном месте танки Готта прорвали оборону и совершили рывок в шестьдесят километров; замерзшие, грязные, как черти, оглохшие от воя моторов солдаты, идущие на помощь, не знали, что Паулюс уже выбросил белый флаг.
В конце концов через некоторое время нарисовалась линия обороны, и немцы и наши с одинаковым рвением и торопливостью вгрызлись в землю, закопались в нее по макушку, и война вошла в разряд дистанционных войн.
Танки немецкие, в том числе и те, что были переброшены из Африки, от густой пыли и снежных зарядов стали все как один розовато-серыми, словно бы перегрелись и сменили окраску. Пыл свой они умерили, утомились и атаковать уже не пытались. Если и делали это, то очень вяло, поскольку в группе армии «Дон», возглавляемой Манштейном, даже самый распоследний солдат знал, на что Гитлер рассчитывал: Паулюс поступит, как истинный ариец и пустит себе пулю в лоб, но фельдмаршал, лишь несколько дней назад произведенный в высокое звание, этого не сделал… Гитлер проклял Паулюса.
Да хрен с ним, с этим шутом Гитлером…
Отдельный гвардейский стрелковый батальон стоял на своих позициях, к батальону примыкали две батареи 76-миллиметровых пушек – артиллеристы закопались в землю, в свои капониры и готовы были встретить не только Готта, но и Гудериана, и Манштейна, – кого угодно, снарядами они запаслись основательно. Плюс к тому, что имелось, «боги войны» запаслись еще и трофейными пушками, благо снарядов немецких было оставлено много.
Из немецких окопов той порой громыхнул винтовочный выстрел – били по гусенку, пуля воткнулась в землю, взбила фонтан почти у самой птицы, гусенок быстро сообразил, что к чему, проворно отскочил от пулевого пробоя и заковылял в сторону русского окопа.
Пустырев выругался, крикнул пулеметчику:
– Максимыч, прикрой гуся!
Максимыч обматерил Гитлера, добавил еще несколько крепких слов и выругался на немецком языке – этому он обучился у разведчиков, когда служил в их роте, но после ранения вернуться к разведчикам не удалось, не потянул ефрейтор по части здоровья и осел в роте Пустырева, – повел тупым рыльцем пулемета по линии длинного немецкого окопа.
– Давай, гусенок, вращай лапами шустрее! – подогнал он беглеца. – В нашем окопе лучше, чем в немецком.
В следующий миг он заметил, что немец, стрелявший в косолапого беглеца, перезарядил свою винтовку и вновь высунул ствол из-за бруствера, крякнул негодующе и дал по брустверу короткую звонкую очередь.
Раскаленная докрасна небольшая струя пуль всадилась в землю, разломав винтовку, спихнула ее в окоп, заодно отшвырнула к противоположной стенке и ретивого фрица, чтобы больше не шалил.
Судя по остро резанувшему слух вскрику, шалить он больше не будет – отшалился. Если, конечно, его довезут живым до госпиталя.
Можно было, конечно, дать очередь подлиннее, но Максимов, воевавший с сентября сорок первого года, знал цену патронам и, если удавалось сохранить в экономной стрельбе десяток патронов, был очень доволен. Был он доволен и в этот раз – и очередь была короткой, как ширинка у штанов – всего на три пуговицы, и красноклювого гусенка он не дал завалить, и пару патронов точно сэкономил.
Оглушенный пулеметным стуком гусенок остановился растерянно, опасливо глянул в немецкую сторону, Максимов, опасаясь за его жизнь, даже вскинулся в тесной пулеметной ячейке:
– Быстрее сюда, гусь! Кому сказали – быстрее!
Гусенок вновь что было силы припустил к русскому окопу, завалился на один бок, перевернулся через голову, мгновение спустя встал на лапы, дальше упрямо пошлепал к окопам, из которых доносилась русская речь.
Максимыч в очередной раз выпустил короткую дымную струю, снес верхушку бруствера на противоположной линии противостояния, за которой увидел плоскую немецкую физиономию, только глина в воздух полетела, следом, кувыркаясь и соря щепками, – обломки досок, которыми фрицы укрепили свой окоп… Так и надо! Нечего за доски прятаться. Пулеметчиком он был толковым – умел из станкового «максима» попадать в консервную жестяную банку, поставленную на пенек в ста метрах от линии огня…
Серо-желтый комок, смешно тряся головой, состриг клювом воздух – взял пробу и, задрав лапы вверх, закувыркался в яму; окоп, в котором находились бойцы Пустырева, ахнул громко – народ переживал за русского гусенка, бегущего из немецкого плена, а Максимов вновь поспешно прильнул к пулемету… Несколько бойцов передернули затворы автоматов.
– Гуся ранило! – прокричал кто-то из бойцов.
– Этого не было, – пулеметчик отрицательно покачал головой, – я не видел!
Гусенок находился к нему ближе всех, беглец уже почти доскребся до нашего окопа – длинного, неровного, специально вырытого во всю длину немецкой обустроенной траншеи, вся история разыгрывалась на глазах Максимова, и тем не менее слово «ранило», выбитое в воздух чьей-то неосторожной глоткой, заставило пулеметчика встряхнуться. Он просипел что-то невнятное, возмущенное, приник к «максиму», но стрелять не стал – в прицельное окошко пулемета опасно сыпануло песком, чуть не забило глаза.
Состояние его было таким, словно бы он раздетым вышел на секущий зимний ветер, первый же порыв пробил его насквозь, до самого хребта, даже дышать сделалось нечем, – на фронте такое состояние бывает у каждого бойца, хоть раз в жизни, но обязательно бывает.
Сипенье человека будто подогнало гусенка, он с писком попробовал выскочить из ямы, в которую попал, но крутизну ее не одолел и скатился назад. Повторил попытку, но безуспешно, и с жалобным, каким-то синичьим писком вновь нырнул назад, хотя добрался почти до верха… Ан нет, только красные лапы дернулись в воздухе пару раз и исчезли.
– Вот физкультурник! – вновь выкрикнул кто-то из окопа, скорее всего – какой-нибудь малохольный паренек из пополнения: вчера в батальон влилось сто двадцать новоиспеченных бойцов.
Пороха они пока не нюхали, поэтому так весело себя и ведут, думают, что тут всегда бывает так интересно, через несколько дней новобранцы уже перестанут быть новобранцами и если они не обтешутся, то обомнутся точно. А кое-кто даже отправится в госпиталь. Страх же, как правило, появляется с первой болью, точнее, после нее.
Гусенок тем временем выкарабкался из коварной ямы и, колыхаясь из стороны в сторону, продолжил путь. И все бегом, бегом, бегом…
Из немецкого окопа высунулась голова в каске, Максимов засек ее мгновенно и так же мгновенно среагировал – пулемет отплюнулся короткой гулкой очередью. Каска тут же провалилась за бруствер, только вряд ли она помогла владельцу.
Какая-то странная смятая тряпка испуганной птицей вылетела из немецкого окопа и беззвучно шлепнулась на нейтральную полосу, – ну словно бы кто-то хотел напугать гусенка… Максимыч держал под прицелом весь немецкий окоп, длинный, как противотанковая траншея, до той поры, пока гусенок не добежал до нашего рубежа и не свалился в руки приятелю пулеметчика старшине роты Сундееву.
Максимыч облегченно перевел дыхание, отвалился от пулемета, затем кулаком стер со лба пот и, прислонившись спиной к стенке окопа, сполз вниз, на глинистое дно.
– Молодец, Егорыч, не дал гусю сломать лапу, – похвалил он приятеля.
– Молодец против овец. – Сундеев и сам был доволен тем, что гусенок спрыгнул ему прямо в руки и вообще уцелел, сидел у него на ладонях, раскрыв клюв и загнанно дыша, он сейчас был похож на желторотого октябренка, выигравшего в своем классе соревнования в беге на пятьдесят метров – уставшего, вспотевшего, но довольного. Гусенок, похоже, понимал все происходившее и вел себя соответственно, хрипло вздохнул один раз, потом другой и начал потихоньку оправлять на груди перья.
– Мы его специально запишем в нашу роту с последним пополнением, – пообещал Сундеев, – официально… В списки внесем, довольствие будет, ёкалэменэ, получать.
Это было дело хорошее.
За старшиной роты были закреплены две подводы, – собственно, это не подводы были даже, не обычные телеги с кривыми оглоблями, которыми пользуются в бедных деревнях, а настоящие фуры с высокими бортами, немецкие, почти новые, судя по яркости защитной краски, с блестящими металлическими деталями – уголками, накладками, шайбами, проволочным крепежом, прочей полубутафорией, которая больше нужна в цирке, чем на войне.
В одной из фур нашлось место и новоявленной живой душе второй роты отдельного гвардейского стрелкового батальона. Насчет имени для нового бойца рядить и гадать не стали, взяли то, что находилось на поверхности, – назвали Гусенком.
– Гусенок – это хорошо, – сказал Сундеев.
– Не просто Гусенок, а с гвардейской приставкой, – уточнил пулеметчик, – гвардии Гусенок, – и будто утвердил это решение, поставил на нем печать.
Продуктов в батальоне было достаточно. Все посылки, которые немцы доставляли в Сталинград по воздуху, шлепались на землю с недолетом: поскольку зенитное кольцо прорвать было трудно, то ночные рейсы воздушных гитлеровских грузовиков заканчивались тем, что продукты оказывались в расположении наших частей и наши бойцы от всей души благодарили фюрера, говоря ему: «Большой тархун!», что означало «Большое спасибо», так что примерно полторы недели отдельный стрелковый батальон откровенно жировал. И за счет этого воевал лучше обычного, поскольку с полным брюхом воевать сподручнее, чем с пустым, во время автоматных перестрелок не надо думать о куске хлеба.
Перепадал гвардейцам и шнапс. Запечатанный в литровые фляжки, обтянутые плотной материей и увенчанные белым, нанесенным по трафарету на ткань масляным орлом.
– С таким обеспечением воевать можно сколько угодно, – довольно хмыкал Сундеев, – и если понадобится, то дойти не только до Берлина, но и до Лондона.
Слово «Лондон» он произносил с ударением на второй слог, получалось почти по-дворянски «многозначительно», как это отметил, приподняв правую бровь, пулеметчик Максимов, после чего вздернул корявым сучком большой палец левой руки и аккуратно посыпал его невидимой солью.
С запозданием, уже определив гусенка в фуру и соорудив ему закуток с подстилкой, обследовали нового бойца – не переломал ли он себе чего во время перехода через линию фронта, не покалечился ли парень?
Все с ним было в порядке, даже царапин не отыскали – ни одной просто, удивительная вещь, хотя голова была испачкана пороховой сажей, лапы – пролитой танковой смазкой и чем-то еще, очень подозрительным, похожим на коровий помет.
– Ну все, гвардеец, больше не будем тебя мучить, – заявил пулеметчик, сажая гусенка в закуток, – поспи малость, отдохни от всего пережитого. Если пошамать захочешь – гавкни нам с Егорычем. Колбасы тебе не найдем, но хлеба с картошкой отыщем. Рассчитывай на тарелку. И, если пожелаешь, можем угостить плошкой шнапса. Понял?
Гусенок все понял – сообразительный был, вытянул шею и тихонько крякнул, почти по-утиному.
– Молодец! – восхитился пулеметчик. – Ежели дело и дальше так пойдет, то скоро у меня в расчете вторым номером будешь.
Второй номер в расчете пулемета «максим» – это должность по окопным меркам высокая, и вообще шансы занять какую-нибудь командную вакансию в роте у нового бойца возросли.
– Только постарайся в фуре под себя не опорожняться, – попросил гусенка пулеметчик, – зад тебе некому подтирать. А сам ты делать этого не умеешь. Понял?
Понял это гусенок или нет, было непонятно, но тем не менее он наклонил голову, крякнул и перед сном начал оправлять перышки у себя на груди.
– Кавалер вырастет, – довольно проговорил старшина Сундеев, – настоящий! – Покашлял в кулак удовлетворенно, будто сам, лично произвел на свет этого кавалера. – Будет настоящая батальонная личность, перед которой, ёкалэменэ, станут вытягиваться все германские гусаки. Как только мы пересечем границу этого подленького государства, а мы ее обязательно пересечем, – тут старшина разгладил свои усы, потом примял их тяжелой ладонью, будто растение, которое должно сохранить нарядную форму, – так и займемся. Пару тамошних гусаков в честь победы запечем обязательно.
К расчету Максимова на смену подтянулся другой расчет – такого же хлопотливого расторопного мужика в ефрейторском чине по фамилии Сковорода. Отличался Сковорода от Максимыча тем, что был голосист, как солист Большого театра, иногда ублажал немецкие окопы украинскими песнями так, что те начинали беспорядочно швырять мины и врубали по громкой связи гитлеровские марши, батальон же на слепой огонь почти не реагировал.
Максимыч, встретив Сковороду, лишь ухмыльнулся весело:
– Будет сегодня у фрицев музыкальная ночь. Ты уж постарайся, Фомич, будь ласков!
– Буду ласков, Максимыч, уважу карабасов, – пообещал Сковорода, он всех немцев называл карабасами, – они у меня сегодня спать с топорами лягут.
– А если вдруг поднимутся?
– Тогда я им фанерками глаза позаколачиваю, чтоб не просыпались и не бузили.
– Ты, Фомич, только не доведи ситуацию до точки, что по тебе уже наши стрелять будут… А немцы пусть стреляют сколько угодно, у них патроны грузовиками подвозят, пусть жгут.
С этими словами пулеметчик Максимов и потопал со своим вторым номером Малофеевым в тыл, только пыль из-под сапог в разные стороны полетела. В тылу у первого номера тоже дела имелись, и важные, надо заметить: сапоги у него были старые, в последнем походе продырявились, надо было бы их от дыр избавить, к правому кирзачу также приколотить подметку – не то уж больно обувь стала походить на башку крокодила с жадно раззявленной железнозубой пастью; и телогрейку, поскольку зима осталась позади, надо обиходить, – пригодится ведь еще одежка…
Штаны-галифе сплошь в дырках, тоже нитки с иголкой требуют, особенно коленки, на них вообще надо нашивать заплаты и прострачивать двойным стежком. И так далее.
Иначе, того гляди, начнется наступление, тогда не до ремонта будет.
– О-хо-хо! – закручинился по дороге Максимыч, поддел сапогом рыжий плотный комок, попавшийся под ногу, отбил его в сторону. – А земля-то… земля-то здесь сухая – червей совсем мало.
– Ты это к чему, Максимыч? – удивился второй номер, ноги при ходьбе он поднимал высоко, ни комки, ни глутки, ни мятые консервные банки на носок сапога ему не попадались, двигался Малофеев аккуратно, бесшумно, из него вообще хороший разведчик получился бы… Но пока получился хороший пулеметчик.
– Как к чему? – прокашлялся первый номер. – Все к тому же… Пора хорошая наступает, на душе делается тепло, рыбалить каждый день можно. И голавль сейчас на крючок очень охотно идет, буквально сам насаживается, и щука, и жерех с сазаном – в общем, все, что имеет в здешних водах хвост и плавники.
– Ты чего, рыбак, Максимыч? – неверяще поинтересовался второй номер, он словно бы открытие какое важное сделал, остановился на ходу, рот раскрыл, будто нечаянно проглотил муху или того хуже – рыбацкий крючок.
– Представь себе – рыбак, – неожиданно уязвленно проговорил Максимов: его поддело удивление второго номера, ну словно бы не верил Малофеев в таланты своего шефа по части ловли голавлей и хитрой рыбы, которую на родине пулеметчика величали безыскусно «конем». Максимычу однажды повезло – он поймал «коня» весом в семь килограммов…
Он тогда и дом свой с женой и двумя детьми накормил ухой и сочными рыбными котлетами, и соседский двор с целым выводком детишек.
– Себе представь, – переиначил его фразу Малофеев, – я тоже этим делом до войны баловался. Когда на фронт уходил, то пять справных удочек оставил, из них пара была ценных, с полуметровыми нахвостниками из седого конского волоса, на карася, м-м-м… Седой волос, он в воде не виден. Я на эти удочки на озерах по целой телеге карасей вылавливал, а то и больше.
– Не загибаешь? – Максимыч показал напарнику указательный палец, согнутый крючком. – Э?
– Вот те крест, не загибаю, – Малофеев поддел ногтем большого пальца правой руки передний зуб здоровенный, как лопата, потом цыкнул и провел по шее, – правду говорю!
– Караси в сметане, да ежели приготовить их умело, осетрине ни на грамм не уступят… А в чем-то даже и вкуснее могут быть, – со сладкой задумчивостью произнес пулеметчик, лицо его разгладилось, обрело умиротворенное выражение, усы растроганно зашевелились. – Значит, ты, Малофеев, тоже принадлежишь к нашему дурацкому племени? Племени рыбаков?
– Тоже, Максимыч.
– Кхэ! – первый номер запоздало встряхнулся. – Получается, что у нас не расчет боевого пулемета «максим», а команда какого-нибудь сейнера, который на Волге ловит кильку?
– Кильки на Волге, Максимыч, нет. Не бывает.
– Это смотря, откуда глядеть, с какого конца, с верхнего или с нижнего…
– Тебя, Максимыч, не переспоришь. Не дано.
– Эт-то точно, – первый номер похмыкал малость, непонятно только было, доволен он такой характеристикой или нет.
Дорога пошла под гору, крутой дугой огибая почерневший березовый лесок, разбомбленный «юнкерсами», безобразно голый, и с уродливой голостью этой, оставленной фрицами, природа справиться не могла, хотя следы всех пожарищ, даже очень жестоких, которые на фронте встречали пулеметчики, природа старалась прикрыть, поднимала на этом месте стенку рослой полыни либо расцвечивала фиолетовыми метелками иван-чая, густыми разлапистыми щетками кизильника, который по осени становился ярко-красным, горячим, будто горел живым огнем. А еще лучше, если у матушки-природы находилось в заначке несколько ростков чубушника…
Чубушник способен скрыть любое уродство, белые крупные цветы его похожи на распустившиеся чашечки жасмина, и запахом обладают таким, что человек невольно забывает о войне, о боли, о горе, размякает, как рыбак, поймавший двухкилограммового голавля. При мысли о крупном глазастом голавле, который, будто сказочная рыба, растопырит свои роскошные алые перья, едва вместе с крючком вылетит на берег, лицо у Максимыча поползло в сторону в обрадованной улыбке, глаза посветлели, он не выдержал, бодро прошелся ладонями по коленям, испачканным сухой глиной, – ну словно бы лет пятнадцать, а то и двадцать сбросил с себя мужик; второй номер вновь остановился, словно бы это дело стало для него привычным, и вылупил от удивления глаза. Рот у него распахнулся сам по себе, самостоятельно.
Увидев это, Максимыч вторично прошелся ладонями по коленям, отбил чечетку и посоветовал напарнику:
– Рот закрой! Потеряешь чего-нибудь, где потом возьмешь недостающую деталь? Или вороватая ворона что-либо утащит, а?
Малофеев поспешно захлопнул рот: действительно, а вдруг пропадет чего-нибудь очень нужное из внутреннего, спрятанного под брезентовым ремнем хозяйства? Тогда ведь ни один доктор не сумеет восполнить потерю.
Гусенок оказался существом сообразительным, интеллигентным, в закутке своем он не стал ходить под себя, ждал, когда кто-нибудь из пулеметчиков либо старшина вытащит его из фуры и опустит на землю.
Внизу он поспешно трюхал в ближайшие кусты и делал все, что нужно было делать. Потом неторопливо обходил фуру кругом, поскольку считал трофейное сооружение на колесах уже своей собственностью, придирчиво обследовал его от оглобель до подковы, прибитой на счастье к задку кузова и из большой плоской «канцервы» ел тюрю – накрошенный хлеб со сладким чаем, из другой посудины, также трофейной, пил воду и располагался под повозкой, в тени, на краткий отдых.
Рос он не по дням, а по часам и очень скоро понял, кто он и что он, что причислен к расчету пулемета «максим» на правах полновесной единицы, – да-да, только так, – и сам стал считать себя пулеметчиком.
Гусенок от своей известности не отставал, о нем написали в армейской газете, поместив заметку «Гвардии Гусенок», так что вскоре о нем знали больше, чем о хозяине-пулеметчике. Через три месяца он выглядел, как настоящий взрослый гусь. И чиновную важность обрел, и поступь криволапую выправил, и горделиво выставленный, наполненный сочным, чуть хрипловатым звуком зоб отрастил, – в общем, превратился в настоящего сталинградского гуся.
Отдельный батальон, в котором служил пулеметный расчет Максимова, на месте не стоял, – сместился по карте малость вниз, к Каспийскому морю, потом передвинулся на запад. При первых же признаках тревоги, предшествовавшей всякому перемещению, гусенок поспешно прыгал в свой нагретый, застеленный сеном закуток и подавал негромкий голос: готов, дескать, к передислокации, – главное было не отстать от своей части, от Максимова с Малофеевым, от расчета, где он числился третьим номером, не то ведь в суматохе, когда и стрельба возникает неурочная, и бомбы едва ли не с веток деревьев сыплются, всякое может быть… И ищи потом, свищи свою родную телегу. Гусь это хорошо понимал и старался быть дисциплинированным.
В конце концов батальон был определен на постоянный участок обороны, в центр Голубой линии, проложенной по кубанской земле, исковырянной лопатами и минами донельзя, хотя земля была подготовлена людьми совсем не для войны, а для дел мирных, но вот так по-чертенячьи бестолково, безжалостно взрытой, вывернутой наизнанку, что рождало у солдат, среди которых было много сельского народа, боль, слезы, онемение, проклятья фрицам, румынам, венгерцам… Очень скоро батальон вырыл окопы в полный рост, соединился с соседями и образовал с ними единое целое, которое ни разрушить с земли, ни взорвать с воздуха, ни закопать в преисподнюю было нельзя.
Гусенок продолжал находиться во втором эшелоне, Максимову не всегда удавалось к нему выбраться, тут одна надежда была – на старшину. Тот, надо отдать должное, про краснолапчатого бойца не забывал, обязательно чего-нибудь ему подкидывал, – то тарелку размельченного колотушкой вкусного местного жмыха, то тюрю из штабного котлопита, то размоченный кукурузный хлеб, добытый разведчиками у немцев… С хлебом одна незадача была – он очень быстро черствел и обретал дубовую твердость. Приходилось на помощь призывать водичку, совать одубевший хлеб в ведро…
Так называемый Таманский плацдарм, который облюбовали фрицы и держались за него зубами, снаряды кромсали так же жестоко и нашпиговывали землю железом так же густо, как и линию обороны под Новороссийском, – на килограмм земли через полмесяца обороны приходилось полтора килограмма металла.
В плацдарме имелось несколько зубцов, которые мешали немцам не только жить – мешали даже дышать, смотреть на звезды и бегать в нужник после жирных баварских сосисек, и они сделали несколько попыток срезать эти зубцы и выровнять злополучную линию. Бои затеялись нешуточные, – в пыли, в дыму, в охлестах грязи даже пропадало солнце – его не было видно.
Ефрейтор Максимов со своим напарником по нескольку часов не вылезали из-за пулемета, для подмоги им – доставки патронов со второй линии на первую Пустырев даже выделил подмогу – очень дюжего бойца, настоящего Добрыню, иначе было не справиться.
Пулемет перегревался и воды для охлаждения требовал столько, сколько не употребляли даже полевые кухни.
Пустырев выделил расчету в помощь еще одного бойца – специального водоноса, такого же, как и Добрыня Никитич дюжего мужика с широкими плечами и крепкими сильными руками. Батальон держался мертво, сдвинуть его с места немцы не могли.
С ручным пулеметом, с «дегтяревым», сменить позицию можно быстро – подхватил его на руки, как винтовку и перебежал в другой конец окопа, повел огонь с новой точки, а с тяжелым неувертливым «максимом», поставленным, как паровоз, на железные колеса, особо не побегаешь, через двадцать метров язык уже прилипнет к плечу, а сам вместе с задыхающимся вторым номером ткнешься задом в землю и встать сможешь не сразу.
Поэтому менять позиции приходилось не так часто, как хотелось бы, немцы это поняли и выставили позади своих окопов целую батарею минометов.