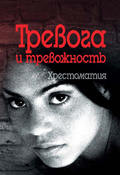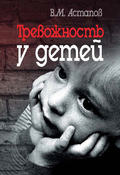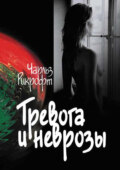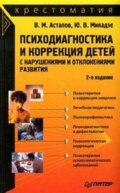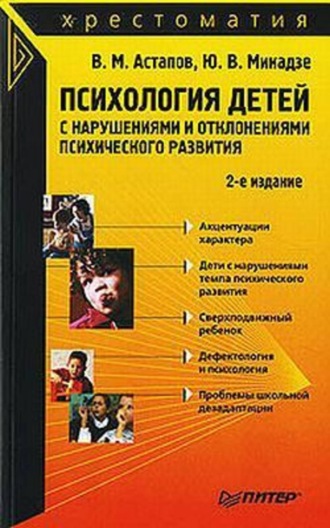
Валерий Астапов
Психология детей с нарушениями и отклонениями психического развития
А. Р. Лурия
ДЕФЕКТОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ[3]
Положения, которые мы старались развить, дают нам возможность подойти с совсем новых точек зрения к тем детям, которых их физические недостатки поставили в особо невыгодные условия, к тем, которые зовутся физически дефективными.
Изучая физически дефективных, психологи пытались обычно ответить на вопросы: в какой степени повреждена их психика и что именно осталось у них из обычного инвентаря здорового ребенка? Эти психологи ограничивались обычно «отрицательной характеристикой» физически дефективного, и они были частично правы, поскольку речь шла об изучении судьбы тех функций, с которыми рождается ребенок на свет и которые у физически дефективного – слепого, глухонемого – оказываются пострадавшими.
Но оставаться на почве такой «отрицательной характеристики», конечно, нельзя: это значило бы пропустить самое существенное, пропустить то, что для психолога представляется особенно интересным. Рядом с «отрицательной характеристикой» дефективного нужно создать и его «положительную характеристику».
В самом деле, слепой или глухонемой не мог бы жить, если бы он чем-нибудь не возместил те недостатки, которые у него имеются. С своим физическим дефектом он оказался бы слишком неприспособленным. И вот вступает в свои права особый и своеобразный механизм: происходит компенсация дефекта. В процессе опыта ребенок учится возмещать свои природные недостатки; на базе дефектного натурального поведения возникают культурные приемы и навыки, покрывающие, компенсирующие дефект и дающие возможность справиться с недоступными задачами новыми, другими путями. Дефективное натуральное поведение обрастает компенсированным культурным, создается определенная «культура дефекта» – физически дефективный получает кроме своей отрицательной характеристики еще и характеристику положительную.
Ее-то, по нашему мнению, и должен главным образом изучать психолог. В последнее время благодаря целому ряду работ картина этой «положительной характеристики» дефективности и ее основные механизмы начинают становиться все более и более ясными для нас.
Еще в 1905 г. немецкий психолог А. Адлер (Alf. Adler) положил основу своеобразному учению о личности, которое мы только теперь начинаем достаточно объективно осмыслять и отдельные стороны которого много поясняют нам в развитии психики и поведения физического дефективного ребенка.
Внимание Адлера, тогда еще врача, имеющего дело с заболеваниями внутренних органов, было привлечено тем фактом, что больные, страдавшие серьезным дефектом какого-нибудь органа, все же каким-нибудь образом справлялись с этим недостатком. Известный факт, что при заболевании одного из парных органов (легкие, почки, наконец, руки) функцию его берет на себя другой «викариирующий» орган, явился наиболее простым случаем, подтвердившим это наблюдение.[4]
Однако огромное число случаев протекает по значительно более сложной схеме. Ведь многие из органов нашего тела непарны, многие же поражаются нацело, и вся их функция целиком оказывается задетой. Это последнее бывает особенно в тех случаях, когда функция органа не выпадает целиком, а оказывается лишь врожденно ослабленной. Так, мы имеем часто врожденную слабость зрения и слуха, врожденный дефект речевого аппарата (слабость голосовых связок, косноязычие и т. п.), врожденные дефекты мышечной, половой, нервной и т. п. систем.
И однако, как показал Адлер, люди не только справляются с этими дефектами, возмещая врожденные недостатки, но часто даже «сверхкомпенсируют» их; люди со слабым от природы слухом становятся музыкантами, люди с дефектами зрения – художниками, а люди с дефектами речи – ораторами. Преодоление дефекта может идти как у Демосфена, который из косноязычного человека сделался известным оратором, многократно возместив природные недостатки.
Каким же путем происходит эта сверхкомпенсация?
Основным механизмом компенсации и сверхкомпенсации дефекта оказывается, видимо, то, что дефект становится в центр внимания индивида и над ним создается известная «психологическая надстройка», пытающаяся компенсировать природный недостаток настойчивостью, упражнением и прежде всего известной культурой использования этой дефектной функции (если она слаба) или других замещающих функций (если эта совсем отсутствует). Природный дефект организует психику, аранжирует ее таким образом, чтобы была возможна максимальная компенсация, и, что самое важное, воспитывает огромную настойчивость в упражнении и развитии всего, что может компенсировать данный дефект. В результате получается своеобразная, неожиданная картина: человек со слабым зрением, которое не дает ему сравняться с другими, делает его неполноценным, ставит этот дефект в центр своего внимания, направляет на него свою нервно-психическую деятельность, развивает особое умение максимально пользоваться теми данными зрения, которые он получает, – и становится человеком, у которого зрение стоит в центре его работы, – художником, графиком и т. п. Мы знаем в истории множество таких полуслепых художников, музыкантов с органическими дефектами слуха, глохнущих, как Бетховен, к концу своей жизни, великих актеров со слабым голосом и плохой дикцией. Все эти люди сумели преодолеть природные дефекты, аранжировали свою психику так, что стали большими людьми именно в той области, на пути к которой у них лежало больше всего препятствий. Оказалось, что дефект, который прежде всего снижал психику, делал ее слабой и уязвимой, может служить стимулом к ее развитию, может и поднимать ее, делать более сильной.
С этой динамической точки зрения физически дефективный получает не только свой отрицательный паспорт, но и свою положительную характеристику.
Спросим себя, однако, в чем же именно состоит механизм такой компенсации дефекта? Является ли он простым механизмом перемещений функции, как это бывает при заболевании одного из парных органов?
Один факт толкает нас на правильное решение этого вопроса, и этот факт дает нам психология слепых.
Уже давно психологи, изучавшие жизнь слепых, интересовались вопросом: как именно слепой компенсирует свой природный недостаток? Создавались целые легенды о том, как тонко осязание слепых, какой необычно тонкий слух они имеют; говорили о том, что у них развивается новое, необычайно тонко работающее «шестое чувство», однако точный эксперимент дал неожиданные результаты: оказалось, что ни слух, ни осязание, ни другие органы чувств слепого не представляют какого-нибудь исключительного явления, что они развиты ничуть не лучше, чем у обычного зрячего человека.[5] Но вместе с тем ни для кого не секрет, что слепой достигает в области слуха, осязания и т. п. значительно лучших результатов, чем зрячий.
Разрешение этого будто бы противоречивого положения большинство авторов, изучавших слепого, видят в том, что, имея одинаково со зрячими развитые органы чувств, слепой вырабатывает в себе умение пользоваться ими, далеко превосходящее умение зрячих. Те слуховые и осязательные ощущения, которые у зрячего при доминирующем зрении лежат без движения, у слепого мобилизуются и используются с необычайной полнотой и тонкостью. Удивительное развитие слуха, осязания и т. п. у слепых не есть результат врожденной или приобретенной физиологической тонкости этих рецепторов, а является продуктом «культуры слепого», результатом умения культурно использовать оставшиеся рецепторы и этим компенсировать природный недостаток.
Мы можем сказать, что слепые часто обладают десятками выработанных навыков и приемов, которых мы не можем заметить у зрячих. Достаточно присмотреться к точности и ловкости в движениях, которые часто проявляются слепыми, необычайно тонкому анализу, которому они подвергают ощущения, приносимые им прикосновениями и слухом, чтобы понять те пути, которые позволяют им компенсировать хоть отчасти их природную неприспособленность. Слух и осязание становятся в центре внимания слепого; под его контролем вырабатывается ряд приемов для их максимального использования – это приемы как бы вращиваются в самую функцию восприятия слепого, памяти, мышления и перестраивают эти последние. В результате такого процесса мы получаем слепых, которые с помощью шрифта Брайля быстро читают текст, которые разбирают географические карты и которые своими путями оказываются в состоянии стать полноценными членами общества. Достаточно вспомнить известную всем историю Елены Келлер, слепоглухонемой от рождения и достигшей, однако, высоких степеней образованности, чтобы понять, что рациональное воздействие, приобщение к культурным приемам может перестроить психику, даже выросшую на особо неблагоприятной почве физической дефективности.
Близкий к этому круг «культурных надстроек» мы встречаем и при других видах физических дефектов. Мы видим часто, как та или иная функция при наличии определенного врожденного дефекта начинает исполнять совершенно иную, новую роль, становясь орудием, компенсирующим наличный недостаток. Так, мы знаем, что при глухонемоте мимика начинает приобретать совершенно новую для нее функцию. Она перестает быть простым путем выражения эмоций, она становится важнейшим коммуникативным средством, пока новые, более совершенные приемы – чтения с пальцев или с губ – не заменяют этот наиболее примитивный аппарат выражения и связи.[6]
Больше того, на этом примере мы можем убедиться, насколько каждое из применяемых глухонемым «орудий» совершенствует, развивает и изменяет его психику. Можно с уверенностью утверждать, что каждому из употребляемых приемов соответствует особая психологическая структура. Совершенно понятно, что у глухонемого, пользующегося для разговоров со своими сверстниками исключительно языком мимики, очень небольшие возможности для контакта, для обмена опытом и сведениями, а следовательно, очень небольшие возможности и для дальнейшего развития и совершенствования интеллекта. Насколько эти возможности развиваются, когда он переходит к языку знаков, который дает возможность передать любое слово, любую комбинацию звуков! Как необычно расширяется его психологический инвентарь! Какой огромный стимул получает развитие его интеллекта, обогатившись не только значительным числом новых понятий, но – главное – новым и значительно более совершенным методом контакта с людьми! Наконец, быть может, столь же важный скачок делает развитие глухонемого, когда он научается чтению с губ, а отсюда и обычной речи, которой он пользуется часто в совершенстве, хотя сам и не слышит ее. Овладев этим «орудием», глухонемой включает себя в среду нормальных, слышащих и говорящих людей. Он получает возможность вступить в разговор с каждым, понять каждого. Не говоря уже об огромном психотерапевтическом значении этого завоевания, выводящего его из замкнутости, меняющего всю его личность, делающего его социально полноценным, такое включение его в широкую социальную среду сразу же раскрывает новые возможности перед его интеллектом. Конечно, в интеллектуальном отношении глухонемого, владеющего умением читать с губ, навряд ли можно сравнить с тем примитивным существом, которое пользуется для связи со средой лишь несовершенными орудиями мимики и нечленораздельных звуков.
Еще один простой пример, иллюстрирующий, как физические дефекты могут компенсироваться искусственными средствами. Мы имеем в виду многочисленные во время войны случаи ранения и ампутации конечностей.
Все эти случаи характерны тем, что в них человек внезапно выбивался из строя, лишаясь конечности, и восстанавливал свою полноценность лишь с помощью искусственной конечности – протеза. Приучение пользоваться протезом вместо руки или ноги в существенном перестраивало характер поведения такого субъекта, и выросшая за время войны «психология протеза» указала на ряд особенностей в пользовании этими искусственными руками и ногами.
Шрифт Брайля, чтение с пальцев и губ у глухонемых, протезы – все это становится предметом психологии наряду с такими процессами, как инстинкты, навыки, внимание и аффект. С переходом к истории человеческого поведения, к изучению его культурных форм такое расширение становится обязательным.
В. Джемс указал в одном месте, что личность человека кончается не кончиком его пальцев, а носком его ботинка, и что ботинки, шляпа, одежда так же входят в состав личности, как голова, волосы, ногти.
Это положение совершенно неоспоримо, если мы решим изучать и культурные формы поведения личности. Понятие культурной личности кончается за пределами организма, и изучение культурных привычек и одежды дает нам ценнейшие материалы к пониманию человеческого поведения.
Вся история одежды и моды говорит нам о том, что одной из существенных задач их было всегда оттенить нужные стороны фигуры, скрыть физические недостатки и – где нужно – компенсировать их. Стоит только немного просмотреть мемуары XVI–XVII вв., чтобы найти целый ряд примеров такого происхождения мод и отдельных частей туалета. Брыжи на рукавах вводятся при дворе для того, чтобы скрыть некрасивые руки; дамские повязки, в начале XIX в. бывшие в моде, облегавшие шею, были введены законодательницей мод, которая должна была скрыть уродливый шрам на шее. Чтобы увеличить рост, употребляются высокие каблуки, и уродливые ноги скрываются длинными платьями. Худоба и недостаточное развитие форм компенсируются корсетами, турнюрами, холстинками и т. п. (особенно развитыми в модах позднего Средневековья и Ренессанса). Трудно было бы перечислить все те случаи, когда физические дефекты компенсировались «стратегией костюма», когда этот последний организованно применялся как дополнение и исправление личности. Достаточно вспомнить все военные костюмы, увеличивающие рост, фигуру и придающие устрашающий, грозный вид, костюмы, начиная от боевого наряда индейцев до современных военных форм, чтобы убедиться, что одежда действительно может составлять как бы часть личности и организуется зачастую общей ее установкой.
Мы не можем пройти мимо еще одного внешнего приема, применявшегося с успехом в модах XVIII–XIX вв., для компенсации недостатков и для того, чтобы организовать внимание, отвлечь его от одной части тела и направить на другую. Мы имеем в виду мушки, которыми пользовались модницы прошлых веков и которые служили великолепным искусственным приемом для того, чтобы соответствующим образом организовать внимание.
Все перечисленные нами приемы сводятся к внешним орудиям для компенсации недостатков. Чтобы быть логичным, следует упомянуть, что их дополняют и внутренние приемы компенсации. То, что мы уже упоминали о формации черт характера, относится именно сюда. Компенсация природной слабости необычайно громкой речью, вызывающим поведением, грубостью является обычной вещью и служит источником целого ряда характерных свойств у трудного ребенка, хулигана и т. п. Мы знаем, что необычайно жестокие с виду люди при ближайшем рассмотрении оказываются очень мягкими и их жестокость – лишь компенсирующая маска, а слабоволие часто компенсируется упрямством.
Физические недостатки, так же как и отдельные психические дефекты, часто компенсируются не только внешними приемами, но и организацией, ориентировкой характера всей личности.
Дефект не может рассматриваться нами как нечто статическое, раз навсегда закрепленное; он динамически организует целый ряд приемов, которые могут не только ослабить его значение, но иногда и компенсировать (и сверхкомпенсировать) его. Дефект может явиться могучим стимулом к культурной реорганизации личности, и психологу нужно лишь уметь различить возможности его компенсации и воспользоваться ими.
Т. Я. Сафонова, А. Д. Фролова
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ[7]
Показатели состояния здоровья детей относятся к числу важнейших характеристик, определяющих положение детей в обществе, а негативные тенденции в области здоровья – бесспорное свидетельство социального неблагополучия.
Особого внимания требует динамика детской смертности.
В 1994 г. отмечается снижение показателя младенческой смертности до 18,6 на 1000 родившихся живыми (1993 г. – 19,9).
В структуре причин смерти, как и в прежние годы, ведущее место занимают состояния, возникшие в перинатальном периоде (45,7 %) и врожденные аномалии развития (21,8 %); 13,2 % младенцев умерло от заболеваний органов дыхания, 6,6 % – от инфекций и 5,1 % – от травм и несчастных случаев.
Перинатальная смертность снизилась с 17,4 на 1000 младенцев, родившихся живыми и мертвыми, в 1993 г. до 17 в 1994 г. за счет снижения ранней неонатальной смертности.
Растет смертность вне лечебного учреждения детей до года, что обусловлено прежде всего ухудшением первичной медико-санитарной помощи, несвоевременной госпитализацией, а также увеличением миграции и числа социально неустроенных семей.
Общая смертность детей в возрасте 0-14 лет сохраняет тенденцию к снижению – в 1993 г. ее уровень понизился на 7,6 % в сравнении с 1990 г. Однако смертность в возрастной группе до 5 лет возросла на 8,1 % с 1992 г. и составила в 1994 г. 4 на 1000 человек соответствующего возраста.
Смертность детей в возрасте 10–14 дет осталась на прежнем уровне, но среди причин, приводящих к смерти, увеличилась доля неестественных причин. Смертность подростков 15–19 лет проявляет тенденцию к постепенному повышению. Она определяется в основном травмами и алкоголизмом.
Анализ смертности детей всех возрастных групп и подростков от травм, отравлений и несчастных случаев свидетельствует о нарастании негативных явлений в обществе, приводящих к безнадзорности детей, приобщению их к асоциальному образу жизни, к стрессовым состояниям различного происхождения, вследствие чего дети оказываются в опасных для их жизни ситуациях, приходят к решению уйти из жизни.
В 1994 г. заболеваемость новорожденных с массой тела 1000 г и более выросла на 12 % – в основном за счет врожденных пороков развития и отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде.
Среди детей в возрасте до 14 лет отмечается рост заболеваемости по всем классам заболеваний (кроме болезней органов дыхания и пищеварения) – в среднем по каждому классу на 10–12 %. Зарегистрировано значительное увеличение нарушений иммунитета (на 30 %), заболеваемости ревматизмом в активной фазе (в 2,5 раза), язвой желудка (на 36 %) и мочекаменной болезнью почек (на 17 %), нефритом с нефротическим компонентом и бронхиальной астмой (на 23 и 15 %) и некоторыми другими болезнями. Эта статистика подтверждает тот факт, что патологии детского возраста приобретают хронический характер, свидетельствует о нарушении аутоиммунных процессов, о подверженности детского населения аллергиям, отражает агрессивное воздействие на детей экологических факторов, стрессовых нагрузок. Кроме того, это связано и со снижением качества диагностики.
В 1994 г. сохраняется неблагополучие и в области инфекционной заболеваемости среди детей: заболеваемость дифтерией увеличилась в 2,9 раза.
Несмотря на активизацию работы по профилактической вакцинации, она еще не достигла того уровня, при котором приобретается коллективный иммунитет. Заболеваемость коклюшем выросла в 1,2 раза, краснухой – в 2 раза. В то же время успешное проведение вакцинации против кори позволило снизить заболеваемость детей этой болезнью на 59 %.
Сохраняется тенденция к повышению заболеваемости детей дизентерией (на 10,5 %). Заболеваемость брюшным тифом снизилась на 62 %.
Продолжается рост социально значимых заболеваний детей. Заболеваемость детей туберкулезом увеличилась на 11,5 % в среднем по России. За 1994 г. заболеваемость сифилисом выросла в 2,7 раза, гонореей – на 3 %, чесоткой – в 1,8 раза. Следует отметить, что на 7,3 % снизилась пораженность детей педикулезом.
В 1994 г. впервые выявлено 2 ВИЧ-инфицированных и 2 заболевших СПИДом ребенка. Всего на 1.01.95 зарегистрировано 277 ВИЧ-инфицированных и 94 заболевших СПИДом детей, из которых умерли соответственно 70 и 60 детей.
В 1990-е гг. проявилась устойчивая тенденция к уменьшению числа детей-дошкольников с нормальным физическим развитием. Состояние здоровья детей дошкольного возраста за последнее десятилетие ухудшилось: по данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков и молодежи Госкомсанэпиднадзора России, в 1994 г. численность абсолютно здоровых сократилась до 15,1 %. Количество детей, имеющих функциональные отклонения, возросло до 67,6 %, а детей с хроническими заболеваниями – до 17,3 %.
Ведущее место по распространенности среди детей 4–7 лет занимают болезни костно-мышечной системы, органов дыхания, болезни кожи, болезни эндокринной системы. Уже в дошкольном периоде жизни у мальчиков отмечается менее благоприятная картина состояния здоровья по сравнению с девочками.
Слабое состояние здоровья у 6-летних учащихся неблагоприятным образом сказывается на процессе их адаптации к учебным нагрузкам и школьному режиму. У каждого четвертого учащегося, имевшего в 6-летнем возрасте хронические заболевания, тяжело протекает адаптация к обучению в школе, что в свою очередь проявляется в резком ухудшении соматического и нервно-психического здоровья, нарастающих трудностях обучения.
На всей территории Российской Федерации отмечается отчетливая тенденция ухудшения состояния здоровья школьников. По данным Госкомсанэпиднадзора России, лишь 10 % выпускников школ могут считаться абсолютно здоровыми, среди них девушек в 5 раз меньше, чем юношей, у 40–45 % имеются морфофункциональные отклонения и 40–45 % приобрели хроническую патологию. Число девушек с хроническими заболеваниями к моменту окончания школы составило 75 % против 35,3 % у юношей. На лидирующее место в структуре патологии школьников выдвигаются болезни органов пищеварения (53 %); за последние 10–15 лет их частота повысилась у школьников 1-х классов в 20 раз и у школьников 10-х классов – в 7,5 раза.
Уже в детском и подростковом возрасте начинаются нарушения репродуктивного здоровья: 30–40 % девушек 15–18 лет имеют различные функциональные нарушения менструальной функции, хроническая патология диагностируется у 1,5-12,2 %.
За последние 5 лет отмечается четкая тенденция к ухудшению психического здоровья детей и подростков. По данным специальных и эпидемиологических исследований, проводимых кафедрами детской психиатрии и НИИ психиатрии Российской Федерации, распространенность основных форм психических заболеваний в детском возрасте составляет 15 %, а в подростковом – 20–25 %, что в 10 раз выше цифр, которые показывает регистрация обращаемости к психиатру. Основными формами психической патологии у детей и подростков являются неврозы, психопатии, девиантное поведение.
Число абсолютно здоровых в психическом отношении школьников снижается с 30 % в 1-3-х классах до 16 % в 9-х, растет число детей с выраженными признаками нервно-психических нарушений в стадии устойчивой компенсации и субкомпенсации (если в 1-м классе число таких детей составляет 10 %, то в 8-м – 29 %).
По данным НИИ дефектологии РАО, примерно 80 % случаев систематической школьной неуспеваемости обусловлены различными состояниями интеллектуальной недостаточности, включая дебильность и так называемую задержку психического развития. Уровня школьной зрелости в 6-летнем возрасте достигают менее 50 % детей, а недоразвитие познавательных способностей отмечается у каждого 10-го ребенка школьного возраста.
Повсеместно отмечается рост числа детей-инвалидов до 16 лет, состоящих на учете в органах социальной защиты (на 01.01.95-398,9 тыс. человек, что на 15,7 % больше, чем на 01.01.94).
В последние годы среди подростков отмечен значительный рост распространенности так называемых «вредных привычек». Возраст начала курения снизился на 2 года и составляет в среднем 12–13 лет. На каждые 100 тыс. подростков 15–17 лет 11,4 состоят на диспансерном наблюдении по поводу алкоголизма и алкогольных психозов, 19,4 – в связи с наркоманией, 7,3 – в связи с токсикоманией (в 1993 г. соответственно 7,6; 9,4 и 7,4), 80–85 % из них – школьники и учащиеся ПТУ. Среди причин, побуждающих подростков к употреблению спиртных напитков, наиболее значимы следующие: слабо сформированное антиалкогольное общественное мнение в России (50 %), отрицательное влияние родителей (41 %), свободный доступ к спиртному (34 %).
Современный период характеризуется широкой распространенностью рискованных форм сексуального поведения подростков при отсутствии знаний о методах контрацепции. В 1994 г. число абортов у девочек и девушек-подростков несколько снизилось, но в целом этот показатель достаточно высок (свыше 335 тыс.). Раннее начало половой жизни у девочек 13–14 лет встречается в 25–30 % случаев. Прослеживается выраженная тенденция к нарастанию числа родов и осложнений беременности и родов у женщин 15–17 лет: число детей, родившихся у матерей 15 лет и моложе, выросло с 2544 в 1990 г. до 3303 в 1994 г.
Состояние здоровья детей в значительной степени зависит от состояния здоровья родителей.
Для репродуктивного здоровья женщин в настоящее время характерен рост бесплодия, расстройств менструального цикла, заболеваний репродуктивных органов. В 1994 г. среди беременных женщин отмечается дальнейшее увеличение заболеваемости анемией – ею страдала четверть беременных женщин в 1993 г. и почти треть в 1994 г.; болезнями мочеполовой сферы – 14 %; болезнями системы кровообращения и поздними токсикозами на 10–12 %. Нормальные роды регистрируются лишь в 37,6 % случаев (1993 г. – 39,9 %). Отмечается рост случаев невынашивания беременности.
Среди 5-6-летних детей, матери которых имели отклонения в течение беременности и родов, 25 % были часто болеющими, 37–44 % состояли на учете у врачей-специалистов. В школьном возрасте при отягощенной наследственности хронизация идет интенсивнее (в 2–3 раза).
Значительное влияние на рост заболеваемости оказывают природно-климатические условия (30 %), причем 20 % приходится на загрязнение атмосферного воздуха и 10 % – на собственно климатические условия. Воздействие фактора внутрижилищной среды возрастает с 12,6 % у детей начальной школы до 20,6 % к завершению 8-го класса. Воздействие социально-гигиенических факторов снижается по мере взросления учащихся с 27,5 до 13,8 % у 8-классников. Показатели патологической пораженности изменяются слабо: от 23,3 до 20,8 % (НИИ гигиены и профилактики детей, подростков и молодежи Госкомсанэпиднадзора России).
В районах с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха отмечается снижение общего количества здоровых детей (в 2,9 раза) и повышение числа детей с функциональными отклонениями (в 2,4 раза). В таких районах более чем в 2 раза снижен уровень гармоничного физического развития, в 2 раза больше детей с повышенным артериальным давлением, в 2,5 раза больше детей с анемией. Экологические факторы не только влияют непосредственно на самого ребенка, но и передаются новорожденному через его мать.
За последние годы в ряде регионов отмечается появление новой массовой формы патологии у детей, связанной с неблагополучием окружающей среды, – желтухи новорожденных неясного происхождения.
Выявлена также зависимость здоровья детей и подростков от среды, формирующейся в учебно-воспитательных учреждениях. По данным Госкомсанэпиднадзора России, в дошкольных учреждениях наиболее остра проблема переуплотнения групп, отсутствие мебели, соответствующей размерам ребенка, что ведет к росту заболеваемости детей острыми респираторными заболеваниями, нарушением осанки у каждого 4-5-го ребенка. Вместе с тем физкультурные занятия на воздухе, закаливающие процедуры в значительной части дошкольных учреждений не проводятся.
Те же тенденции прослеживаются и в школах. На низком уровне находится состояние физического воспитания школьников: 2 урока физкультуры в неделю компенсируют лишь 12 % необходимой двигательной активности. Не внедряются «малые» формы физического воспитания (физкультурные паузы, активный отдых на переменах и т. д.). Только 20–30 % уроков физкультуры проходят на открытом воздухе.
Переход большинства школ на 5-дневную неделю существенно ухудшил гигиенические условия обучения школьников: сократилась продолжительность перемен, плотность уроков по основным предметам возросла до 87–95 % против 7880 % при 6-дневной учебной неделе. Следствием таких перемен стал рост острой заболеваемости школьников на протяжении учебного года в 4,6 раза по сравнению с таковой при 6-дневной неделе. При 5-дневном режиме обучения количество школьников, состояние здоровья которых ухудшилось за учебный год, составило 24 % против 15 % таких детей при 6-дневной неделе.
Неблагоприятным фактором явилось сокращение санаторно-лесных школ к началу 1994/95 учебного года (с 91 в 1993/ 94 учебном году до 85), в то время как потребность в таких учебных заведениях растет с каждым днем. Сеть санаториев не удовлетворяет потребности в этом виде помощи детям, материально-техническая база во многих учреждениях остается неудовлетворительной, что не только создает трудности в обеспечении лечебно-диагностического, реабилитационного процесса на современном уровне, но и затрудняет внедрение высокотехнологичных организационных и клинических форм и методов восстановительного лечения и реабилитации.
Более половины учащихся в учреждениях нетрадиционных видов обучения заканчивают учебный год с признаками сильного и выраженного переутомления, с хроническими заболеваниями; особого внимания заслуживают учащиеся начальных классов, среди которых только 9,7 % здоровы.
Введение в учебный процесс компьютерной техники также требует регламентации работы на ней. Выявлено, что двухчасовая работа на ЭВМ вызывает у студентов и школьников старших классов большее напряжение центральной нервной системы, слухового и зрительного аппарата, сердечно-сосудистой системы, чем обычные занятия той же продолжительности.
Большинство детских и акушерско-гинекологических учреждений работают в условиях дефицита лекарственных средств. В течение 1994 г. отмечено резкое подорожание отечественных лекарств – от 4,5 до 8 раз по отдельным территориям. За последний год значительно ухудшилось обеспечение населения и лечебно-профилактических учреждений лекарствами: в 1994 г. потребность в лекарственных средствах обеспечивалась за счет отечественных производителей на 35 % (в 1992 г. – на 50 %).
На обеспечение контрацептивами наиболее уязвимых групп населения (подростков, женщин групп риска, малообеспеченных граждан) выделено 34 % всех средств.
Значительная часть средств в 1994 г. направлена на укрепление материально-технической базы учреждений детства и родовспоможения.