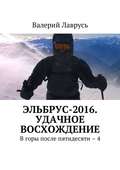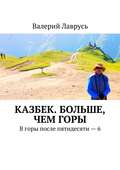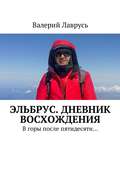Валерий Лаврусь
Эльбрус с запада. Настоящий альпинизм
Игорю Чаплинскому, не вернувшемуся с западного склона Эльбруса, посвящается. Упокой, Господи, душу раба Твоего Игоря.
Редактор Евгения Белянина
Фотограф Александр Автомонов
Фотограф Григорий Кочетков
Фотограф Константин Смирнов
Фотограф Михаил Тарасов
Фотограф Валерий Лаврусь
Фотограф Оксана Данилова
© Валерий Лаврусь, 2020
© Александр Автомонов, фотографии, 2020
© Григорий Кочетков, фотографии, 2020
© Константин Смирнов, фотографии, 2020
© Михаил Тарасов, фотографии, 2020
© Валерий Лаврусь, фотографии, 2020
© Оксана Данилова, фотографии, 2020
ISBN 978-5-0051-8170-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

* – отсылка к «Краткому справочнику альпинистских имён, названий, жаргонизмов, снаряжения, техник с фотографиями и без», расположенному в конце книги.

Закат в горах…
Солнце скрылось за вершинами, но его лучи ещё продолжают освещать небо странными чёрными магическими прожекторами. Всё в мире подвижно, неустойчиво, цвета меняются, тени ломаются, профили гор превращаются в диковинных зверей. Вот слон, вот медведь, а вот вставший на дыбы единорог. Но волшебство это кратко. Быстро темнеет. Горы сливаются с небом, в небе расцветают звёзды – крупные, яркие, цветные.
А бывает по-другому. Солнце уходит не за гору – оно медленно, спокойно ложится в ущелье. И ве́чера тогда становится больше, можно дождаться золотого, красного и даже малинового заката. Но тот закат не главное! Главное снова на другой стороне. Заснеженные вершины вдруг расцветают всеми оттенками розового и голубого. Розового, светящегося – где гор коснулись кисти лучей заходящего солнца. Голубого, холодного – откуда солнечные лучи уже ушли, где наступила ночь. Чистый Рерих! Увидеть такое можно на Ленина с севера, из Киргизии. Или на Эльбрусе с запада. Впрочем, на Эльбрусе можно многое увидеть: восходы, закаты, лавины – они тоже бывают завораживающе красивы. А какие там грозы!
Эльбрус – главный бриллиант в коллекции российских гор. Высшая точка Европейского континента. Древний, могучий двуглавый вулкан, спящий под снежно-ледовым покрывалом. Иногда кажется, что мы сами не понимаем, какой бесценный дар достался нам. И ходим по нему ногами. Грешные. А должны бы летать.
…Бедную «буханку»1 безжалостно мотало и швыряло из стороны в сторону. Восемнадцать километров бездорожья. Можно пройти пешком по живописному ущелью реки Кубани. Высокий сосновый лес, малинники, земляничные поляны. Красота! Но лучше ехать на автомобиле. Только автомобиль нужно выбрать покрепче. И водителя покрепче. С железными нервами и бетонной выдержкой, ибо форсирование «мостов» в тех краях (мосты в кавычках, потому как временные деревянные настилы вряд ли можно назвать настоящими мостами) требует от водителя предельной осторожности, сосредоточенности, профессионализма и особого жопочутья. Помните из детства, есть такое выражение – чувствовать жопой? Вот без такого чутья соваться туда нечего.
Саша, наш второй гид, сидел, вцепившись одной рукой в сиденье, другой пытался на весу удержать пакет с остатками персиков и черешни, и улыбался. Фрукты мы опрометчиво купили в Пятигорске и опрометчиво вовремя не съели, а после Хурзука2 начался «танковый полигон в Алабино».
В Пятигорск нас на сутки занесло из-за того, что в чехле для горнолыжного снаряжения не прилетела часть багажа нашего главного гида Григория Кочеткова. Последнее время в авиакомпаниях стало часто такое случаться. Все летели разными компаниями: Миша «Аэрофлотом», я и Костя «Ют-эйром», отличилась «Сибирь», которой летел Гриша. И мы почти на сутки зависли в Пятигорске – в чехле ехало слишком много всяких нужных вещей: верёвки, кошки, ледоруб и прочая, прочая, прочая… И хорошо, что зависли. Нужно настроиться, приготовиться, созвониться наконец. Потому как после Хурзука вся связь заканчивается. Вообще. Я едва успел отправить вотсапку Валико, мол, связи не жди, вернёмся в эфир дней через десять. Жена в ответ оптимистично помахала смайликом, мол, ничего, переживём.
Теперь, судорожно вцепившись руками во всё, что можно, мы терпеливо сносили тяготы автомобильного пути из Хурзука в Джилы-Су.
Нас пятеро. Два гида и три восходителя. Два крутых гида, два крутых восходителя и я. Мои коллеги Костя Смирнов и Миша Тарасов отлично подготовленные альпинисты. Стояли на вершине Ленина. Костя дважды побывал на Хан-Тенгри3 (на Хан дважды! Мама дорогая… Хан – это такая гора, такая… про которую говорят шёпотом, с придыханием, 7000 метров сложной альпинистской техники и неимоверной красоты), Миша на Хане тоже бывал, но лишь один раз («всего один»… это юмор и самоирония). И Миша, и Костя летом собирались зарабатывать «Снежного барса» дальше, взгляды их были устремлены на пики Корженевской4 и Коммунизма5. Но обоим, как, впрочем, и всем жителям Земли, ковид планы поломал.
Что интересно, до этой поездки ребята друг друга не знали. Их собрал наш главный гид Григорий. Григорий Кочетков.
– Интересно, – Миша смотрит на нас с Костей оценивающе, – кто из вас с третьим разрядом?
Он это спрашивает уже вторые сутки, но в ответ мы только мотаем головами и отчаянно не признаёмся.
– Пожимают. Мотают, – Миша говорит отрывисто, хватаясь на кочках за ручку у крыши, – а потом…
«Бегут на Гору?» – хотел уточнить я, но не успел, подбросило, чуть язык не прикусил. Нет, Миш, не побегу. Не боись. Может, Костя? Костю я уже немного знал, мы с ним пару раз встречались на тренировках у Гриши в Крылатском. Костя побежать мог.
Лес становился реже, пастбищные загоны встречались чаще, за окном начинался мир гордых свободолюбивых пастухов-сюрюучу. Через час мучений въехали в долину горного ущелья. Дорога перестала ходить по краю пропасти, запестрели палатки («альпинистов, что ли, здесь столько?»), выросли деревянные домики, щитовые, даже каменные. На высоком берегу, на зелёной лужайке, рядом с двумя небольшими палатками, в которых жили две симпатичные женщины: Инна сорока пяти лет и Даша лет двадцати (они верно ждали своих ненормальных мужчин, которые зачем-то ушли в горы), мы разбили лагерь из трёх палаток. «Командирская» – аркой, для Григория и Александра, «шатёр» – для меня и Миши и небольшая одноместная – для Кости.
– Сто пятьдесят за палатку! – услышали мы. Девчонка лет восемнадцати с обветренным лицом и руками в цыпках, примчавшись на коне, уведомила нас, что и здесь товарно-денежные отношения никуда не подевались.
– Старший кто? – через плечо уточнил Гриша. Платить он не спешил, надо разобраться, что тут у них и как.
– Закурить есть? – девчонка заодно решила застрелить на курево.
Миша протянул сигарету. Сигарету Мише жалко, у Миши последняя пачка, брать с собой больше не стал, Миша бросает.
– Ахмет – старший, – сообщила ковбойша, подкуривая, – вечером будет.
– Вечером и заплатим… – Гриша принялся распаковывать многострадальный чехол, давая понять, что разговор окончен.
Расстроенная девчонка уехала, а мы продолжили оборудовать лагерь.
– Смотри, – Миша показал на гору, – яки!
Огромное стадо, штук двести, холёных красавцев, в основном чёрной масти, спускалось из-за перевала к реке. Многие коровы шли с телятами. Большой зверь. Величественный. Гималайский! В Непале як – скотина незаменимая, используют его для транспортировки грузов через высотные перевалы. Мяса шерпы-буддисты не едят, но молоко пьют, а потому делают и простоквашу, и сыр. Интересно, а как тут? Старый пастух Ибрагим, с которыми мы познакомились на источниках (куда отправились после позднего обеда), ответил на мой вопрос прозаически. «Мы их кушаем», – сказал он. Яки у них полудикие, не доятся, вещей не перевозят, пасутся сами, вся польза – красота и мясо. «Ощень вкусное!» – уточнил Ибрагим и, сменив тему яков, перешел к насущному: коронавирус, голосование за поправки в Конституцию и прочие столичные новости. «Пошли купаться! – хлопнул он меня по плечу, исчерпав своё политическое любопытство. – Ощень полезно! Семьдесят пять лет купаюсь, видал какой?» Я видал, но купаться не рискнул. Джилы-Су в переводе с тюркского «теплые источники», но в этих вода холодная. 17 градусов! Народ, однако, плещется в них с утра до вечера. Минеральная вода с примесью сероводорода. Эффективное средство подбодрить утомлённые городской суетой тела. Бальнеологический курорт бы там устроить, но пока только эти каменные домики-купальни, да и то наполовину разрушенные, наполовину загаженные. Впрочем, как везде на Эльбрусе. Разруха! Как обычно, разруха. И как обычно, в первую очередь в башке.
Пока купались, любовались яками, общались с местным населением, наступил вечер. Расправляя облака, солнце принялось укладываться в ущелье… Овцы, кони, коровы (яки ушли за гору), сбиваясь в стада на склонах, готовились ко сну. Лаяли собаки. Слышались щелчки кнута, мычание коров, блеянье овец. Это не горы, это пастораль какая-то! И тут из-за облаков вышел Эльбрус. Покрутился, прихорашиваясь, снял с вершин пару тучек, повернулся, и мы ахнули:
– Пик Ленина!
Аж сердце защемило, как похоже. Поменьше только. И сурков нет. Но есть суслики, но и они поменьше сурков. А так всё очень похоже…

Завтра мы уйдём на первую заброску. Без портеров, без техники, заносить всё будем с двух раз. Хорошая акклиматизация.
Акклиматизация в горах – первая вещь! А не то придёт горняшка* и всех обломает. Можно быть физически подготовленным, можно быть психологически мотивированным, можно быть здоровым как конь богатырский, а можно просто задохликом, но придёт горная болезнь и всех уравняет, как кольт. Жёстко, коротко и непререкаемо. Главный парадокс горной болезни – её искренняя любовь к марафонцам, айронменам и прочим триатлонцам. Их бесконечно выносливый, прямо скажем, конский организм привыкает длительное время жить на предельной нагрузке, и при подъеме на высоты выше 3000 метров не запускает адаптивный механизм. Считает, что высота – это тренировка такая. Высота увеличивается, нагрузка растёт, а привыкания не наступает. Высота снова увеличивается, нагрузка тоже, но привыкания всё нет. В какой-то момент происходит срыв… И совершенно здоровый, тренированный потенциальный восходитель сдыхает, и хорошо, если выражение останется образным. В общем, акклиматизация к высоте в горах – дело чрезвычайной важности! Лучше потратить запасной день на акклиматизацию, чем неакклиматизированным дожидаться погоды. В первом случае у вас даже в не очень хорошую погоду останется шанс взойти на вершину, тогда как во втором шансов нет вовсе. Особенно если вы на таком маршруте, как Эльбрус с запада…
Основных маршрутов для грешных на Эльбрус четыре.
Первый, самый простой и известный, обеспеченный высокогорными базами, оснащенный скоростными современными подъемниками, ратраками, снегоходами (не всё ногами), – маршрут с Поляны Азау, из Терскола, из долины реки Баксан, это маршрут с юга на Западную вершину Эльбруса (5642 метра).
Второй, длинный, туристический, технически простой, сумасшедше красивый, начинающийся из посёлка Эльбрус, – маршрут с востока.
Третий, «маршрут первопроходцев»6, с длинными высотными переходами, без вспомогательной техники и с минимальным количеством баз, выходом с поляны Эммануэля со стороны Пятигорска – маршрут с севера. Им традиционно заходят на Восточную вершину (5621 метр), но возможны варианты.
И четвёртый… Маршрут с запада7. Из ущелья реки Битюк Тюбе8, из аула Джилы-Су9.
«Маршрут восхождения на Эльбрус с запада – это самый экстремальный путь на Западную вершину Эльбруса. Здесь нет канатных дорог и ратраков, нет инфраструктуры, и по этому маршруту мало кто ходит».
«…здесь придётся в разы больше считаться с природными опасностями».
«Взойти на высочайшую вершину России и Европы по самому дикому и сложному маршруту – это испытание для избранных».
«Самая редкая и сложная экспедиция – восхождение на Эльбрус с запада, её предлагают только опытным альпинистам. По западному склону водят группы далеко не все гиды, поэтому таких придется поискать…»
Можно продолжать цитировать альпинистские сайты, всё и дальше будет в таком же духе. В общем, маршрут с запада – полная жопа для туристов-любителей и настоящий суровый альпинизм. И к акклиматизации должен быть соответствующий подход. А иначе…
…Утро. На траве и палатках роса. Обильная, плотная, густая, хоть пей. На всём, что открыто, лежит буквально слой воды. Но беспощадное солнце уже поднимается на востоке и скоро иссушит эту влагу. Горы ещё прячутся с ночи от раскалённого светила в лёгкой накидке жиденьких облаков. Река чиста и прозрачна, не шумит и не буйствует. Это днём, напившись талой эльбрусской воды, она станет мутной, грязной и возьмётся ворочать огромные булыганы. А пока идиллия…
Костя ушёл на источники. Косте источники нравятся. Они его бодрят. Остальные спят как суслики. Впрочем, сами суслики уже проснулись и играют в пятнашки. Скоро и наши поднимутся, и тогда начнётся суета. Сегодня – первый выход в горы. День заброски на 3500. Альпинистское «железо»* (ледоРубы, ледоБуры, кошки, карабины), альпинистские ботинки, верёвки и еда. 15—20 килограммов на брата.
Эти килограммы главная моя головная боль. Помню, на Килиманджаро у нас на двоих было два гида, повар, официант и аж семеро портеров! Хорошо ходить на Килиманджаро. И к базовому лагерю Эвереста хорошо, там всю поклажу несут шерпы. Здесь нет ни негров, ни шерпов, никого. И «хеликоптер нихт»10! А значит, всё на себе. Миша и Костя спокойны, им не впервой. «Если не можешь нести свои восемь килограмм, нехер тебе делать в горах, говорит Толгатыч», – делится со мной мудростью великого альпиниста Миша. Миша большой друг Василия Толгатовича Пивцова*, легендарного казахского альпиниста, восходителя на все четырнадцать восьмитысячников без кислорода (он даже на зимний К2 встать пытается, чего в мире никто ещё не делал). А Миша с Пивцовым дружит и ходит на Ленина и Хан-Тенгри. Такой вот у нас Миша.
Но про восемь килограммов Толгатыч, безусловно, прав… И восемь килограммов я готов носить хоть круглые сутки. Но тут же пятнадцать! А может, двадцать? Ладно, нечего плакаться… И, собирая рюкзак, я прихватил общественную верёвку. Если думать, что украл, – нести будет легче, народная мудрость. Хороший у нас народ, остроумный.
Вышли в десять.
До реки маршрут тропой идёт по альпийским лугам с небольшим подъёмом. Ходить по такой тропе можно целый день. Но река вносит разнообразие. Глубоко врезаясь в рельеф, она рассекает тропу, мчится и грохочет меж огромных валунов, стремясь закопаться и спрятаться от палящего солнца ещё глубже. В эту совершенно замечательную горную речку я и упал.
Там и шагнуть-то было чуть больше метра… Ну, может, метра полтора. И Григорий страховал. Но я заменжевался, выбирая, куда встать, засуетился… Камень под ногой поехал… И я, потеряв равновесие, грохнулся в бурлящий поток. Как два коршуна, кинулись гиды за мной, подхватили и буквально вытолкнули на берег, даже рюкзак не успел намокнуть, всего-то набрал воды в ботинки да руку ободрал и штаны намочил, в прямом (упал же в воду) и переносном смысле. «Кто ссыт, Валерий Павлович, – тот погибает!» – назидательно изрёк Гриша, выливая воду из своего ботинка. Я покивал, а про себя подумал, что-то я стал неуклюжий какой-то. На Севере-то я…
То же подумали яки. Стадом в пятьдесят рогатых они встретили нас на каменном плато за рекой. Сбившись в кучу, животные удивлённо взирали на странных пришельцев с большими горбами. Что тут делают эти глупые существа? Зачем пришли? Особенно вон тот… в сырых штанах… Он-то здесь зачем? Сами они сюда выбрались отдохнуть от назойливых насекомых. Растительность на высотах за 3000 метров скудная, не распасёшься, лишь небольшие островки жёлто-белых невысоких, но ослепительно-ярких ромашек, хаотично разбросанных, точно огромный солнечный заяц испятнал своими лапами серую каменистую долину.
Привал сделали у высохшего горного озера, хотелось пить и посидеть. «Недавно же была вода…» – бормочет Саша, вернувшись от иссохшего ручья с пустой бутылкой. Облизнув губы, мы молча надеваем рюкзаки и через сорок минут, преодолев пятидесятиметровый взлёт, выбираемся на живописную площадку. Крупный песок под ногами, в двадцати метрах разговорчивый ручей, валунник слева, валунник справа и коричневые скалы с заснеженными верхушками. Феерично! Наш лагерь номер один. Лагерь на 3500 метров.
Разгрузив рюкзаки, сняли ботинки для просушки, вскипятили воду, наделали чая и с блаженством принялись его пить. Акклиматизация же. Время нужно же. А тут тепло, ненавязчивый ветерок, чистое небо с редкими и низкими облаками. Ещё не высокие горы, но уже горы! И хорошо! Ах, как хорошо, Господи. И ботинки подсохли. И настроение отличное, рюкзак-то допёр! Хоть и упал в речку, но допёр. И теперь идти вниз. И с пустым рюкзаком.
Я сидел, шевеля пальцами голых ног, жмурился на солнышко, прихлёбывал чай, а мои коллеги спорили. Костя с Мишей спорят постоянно, развлечение у них такое. Миша с иронией называет Костю либералом, а тот в ответ Мишу патриотом. Спорят, но, как ни странно, почти всегда приходят к консенсусу. Мыслят похоже. Выпускники мехмата МГУ. Одна школа. И оба апологеты «Русского стиля управления»11 Александра Прохорова. Мысли у наших мехматовцов всегда неординарные, образы яркие, выводы оригинальные. Аналитик и предприниматель. «Либерал» и «патриот». Впервые в горах я больше молчу, чем говорю. Я внимаю. Честно говоря, любопытное для меня состояние.
Григорий кипятит воду, заваривает свежий ягодный чай и слушает. Я пью чай и слушаю. Лишь наш второй гид Александр не интересуется этими замечательными спорами. Саша увлечённо фотографирует. Он у нас художник! У него потрясающие фотографии, и все мы у него их клянчим.
…На обратном пути река снова преподносит сюрприз. От теплой погоды и бурного таяния в верховьях на леднике – она распухла, разогналась и выглядела теперь устрашающе. Место, где мы и так не очень удачно переправились, стало совсем непроходимым. Саша осмотрел реку, берег, почесал затылок, решительно снял ботинки и штаны и, стоя в потоке, принялся страховать нас на переправе.
На базу вернулись к шести. Жрать хотелось, как из пушки! Целый день один чай. И тут соседки преподнесли нам борщ с мясом! Вах! Вот сюрприз! Откуда? Соседки – вегетарианки, мы это узнали ещё вчера: тогда почему в борще мясо? Для нас специально? Да ладно!
Оказалось, варили не они. В долине много разного народа (те самые палатки и деревянные домики) – едут на источники пожить, взбодриться, побродить в предгорьях, набраться красоты. Кто-то закончил процедуры, отчалил и оставил борщ. С мясом! И это стало для нас подарком.
Другим «подарком» стало известие, что со всей этой багажной чехардой у Гриши пропали кошки. «Не помню… – сокрушался Григорий. – Куда же… Положил же! Сюда же!» – тряс он пресловутый лыжный чехол. Гид без кошек на техническом маршруте? Не бывает. Решили идти на склон ущелья, на точку, где, по слухам, ловит Мегафон, и громко кричать HELP, чтобы подвезли кошки. На связь отправились Костя, Саша и Гриша. Мы с Михаилом ушли купаться в источнике, у нас в телефонах сплошной МТС, нам ловить там нечего.
К девяти почти стемнело. Парни не возвращались. Мы с Мишей лежали в палатке и ждали. Сначала ждали, потому что должен же быть ужин. (Сами ещё не освоились в продуктах и горелках.) Потом ждали парней, потому что начали волноваться. Потом просто ждали. Когда окончательно стемнело, я вылез из палатки и пошёл забирать свой телефон, который отдал нашему Ахмету на зарядку (он к ночи обычно включает генератор), заодно посветить фонариком. Вышел – и тут же подвергся нападению ночных бабочек. Безумные насекомые сотнями летели к фонарю на голове и полностью облепляли лицо. Фонарь пришлось выключить. Поработать маяком не получилось.
– Обалдели бабочки, – доложил я Мише, вернувшись в палатку, – чуть не сожрали!
– Пацанов не видать? – спросил он, оторвавшись от книги в телефоне.
– Не видать, – ответил я и лёг, уставившись в тёмный потолок палатки.
– И ужина не будет, – через минуту добавил я, словно это была самая важная новость.
Парни вернулись к одиннадцати, когда мы уже спали.

Михаил.
Высокий, поджарый, лысый. С бойцовским характером и душой оптимиста, он всегда улыбается. Называет себя сыном корейского народа, кто-то у него в бабушках-дедушках выходец из Страны утренней свежести.